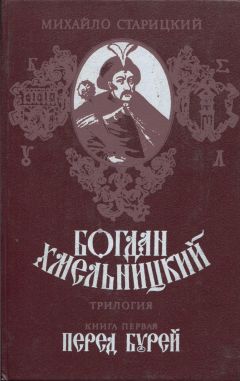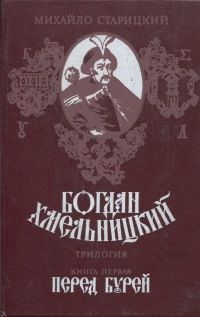— Галю! Царская бородка высыпалась! — повернула к девушке свое огорченное личико.
— А я тебе говорила, Катрусю{46}, — подняла голову та, — что высыпится: нужно было собирать раньше.
— Галочко, что же делать? — чуть не плачет Катря.
— Не огорчайся: я тебе привезу из Золотарева, сколько хочешь.
— О? Вот спасибо! Я на тот год везде ее насею... Как я тебя, Галю, люблю! — подбежала она вдруг и обняла Ганну. Да, это была та самая Ганна Золотаренковна, о которой отзывались с такой похвалой поселяне.
— Геть, — заплакал мальчик, отстраняя ручонками девочку, — геть к цолту!
— Юрочко!{47} Гай-гай, так сердиться! — строго покачала головой Ганна. — Если ты посылаешь Катрю, так и я пойду с ней туда.
— Галю! Я не бу-ду! — уже всхлипывал мальчик, обнимая ее колени и пряча в них головку.
— Ну, не плачь же и никогда не бранись, — погладила она его по белокурым жидким волосикам. — Катруся — твоя сестра, тебе нужно любить ее. Ну, полно же, полно же, не капризничай! Вот смотри, как Катруся побежала собирать семена. Когда придет весна, мы бросим их в землю, а бозя прикажет солнышку пригреть — вот они и станут рости, как и ты.
— А я вылосту, — улыбается уже хлопчик, — лоскази мне, люба цаца, казоцку.
— Ну, слушай!
В это время с визгом и криком выбежали из гаю мальчик и девочка. Девочка лет восьми бежала впереди, вся раскрасневшись и растопырив ручонки; на лице ее играли страх и восторг; она постоянно озиралася назад, улепетывала, изображая татарина, и кричала во всю глотку: «Ай, шайтан! Козак, козак!» А мальчик, вылитый портрет девочки, гнался за ней с азартом и подгикивал: «Гайда! Не уйдеш, голомозый!» Он держал в левой руке лук и стрелы, а в правой — собранный в петлю шнурок; останавливаясь на мгновенье, метал он стрелу, и при промахе пускался догонять снова.
— Попал, в ногу попал! — крикнул он. — Падай, Оленко{48}, ты ранена, ты мой бранец!
— Нет, Андрийко{49}, не попал! — возражает, убегая, Оленка, хоть у нее от стрелы уже синяк на ноге и страшная боль.
— Так вот же тебе! — с ожесточением пускает стрелу Андрийко и попадает девочке в спину.
— Ой, — ухватилась та за ушибленное место и присела.
— Андрийко! — с испугом встала Ганна, обнаружив свой стройный и высокий рост, и пошла быстро к игравшим, — как же не грех тебе так ударить сестру?
— А почему она не падала? — надувши губы и смотря исподлобья, буркнул Андрийко.
— Да для чего же ей падать?
— Я ее ранил в ногу, так она и должна была упасть, — убежденно доказывал он, — я бы тогда ее в плен взял, а если она начала удирать, то я должен был добить ее... татарина.
— Фу, как не стыдно подражать нашим ворогам!
— Я ее оттого и убил... Дид говорит, что нельзя татарина живым пускать... а то он убьет, — тут кто кого.
— Да зачем же играть в такую злую игру, — гладила Ганна по головке Оленку и вытирала слезы на ее глазках, — вот и обидел сестру, а ведь вы близнята, должны бы сильно любить друг дружку!..
— Я нехотя, — потупился в землю Андрийко.
— Да, нехотя... а вот хорошо еще что в спину, а если бы в глаз? Нельзя играть в то, где один обижает другого.
— Я не настоящими стрелами, это только очеретяные, смолою налепленные, — оправдывался хлопец.
— Все равно, тоже больно бьют.
— Так я буду накидывать арканом, а стрелы и лук кину, — видимо желал помириться Андрийко.
— Мне уже не больно, — бросилась целовать Ганну Оленка, — совсем не больно, Галюню... Будем играть, Андрийку!
— Ну, ну, — повеселел тот, — а то я нехотя... Отбегай же вперед!
— Осторожнее только, — поправила ему Ганна чуприну и пошла обратно к террасе, где ее на ступеньке все ждал Юрко.
— А я, Галю... не плякал, — улыбался он, болтая ножками, — а казоцки ждал.
— Вот и молодец, запорожский козак, — уселась, Ганна.
А близнята, подхватив себе еще две пары детей, неслись с звонким смехом и радостным криком через бурьяны, через гряды снова в темный гаек.
— Я тебе расскажу про недобрую козу, — начала Ганна. — Жил себе дид та баба, и был у них внучек хороший, хороший, послушный, а хозяйства всего-навсего — только коза. Жалеют все эту козоньку: поят, кормят, гулять посылают; а козонька ме-ке-ке да ме-ке-ке... жалуется, что ее голодом морят. Вот раз дид посылает ее...
— А что себе думает панна Ганна, — прервал рассказ незаметно подошедший дед, — что у нас ульев нема?..
Седая борода деда спускалась до пояса, а из-за широких желто-белых нависших бровей еще светились огнем черные очи.
— А для чего ж вам, диду, теперь ульи?
— Хе, для чего? Для роев, — усмехнулся дед, покачав головою, — вот тебе, панно, и диво! Господарь наш, продли ему господь веку, все козакует, а мы тут ему господарюем; вот солнышко пригрело, а муха божья и взыграла, да сегодня нам аж пять ройков прибыло...
— Так поздно? — изумилась Ганна.
— А что ж ты думаешь, панно моя люба, если поздние, так ни на что и не нужны? Как бы не так! Не такой дид, чтобы им рады не дал. Так-то, моя крале! Вот мне и нужно новых штук десять ульев, да не вербовых, а липовых... Хе, для такой пышной силы липовых!
— Есть у меня, диду, еще пять ульев, на чердаку.
— А цто зе дид сделал? — дернул за рукав Ганну Юрко, укладываясь на ступеньке.
— Постой, родненький мой, я вот только... — хотела было встать Ганна.
— Что дид сделал, козаче? А вот собрал, медком накормил... Хе! Да ты уже никак спишь? Чем козак гладок? Наелся и на бок! То-то, — продолжал словоохотливый дед, — поздние! И поздние, и ранние-все нужны: вот ты ранняя у меня, а стоишь, може, сотни поздних, а я вот поздний, древний, а еще, если гукнут клич, так мы и за ранних справимся... Ого-го! Еще как! — потряс он кулаком.
— Где уж вам! — улыбнулась Ганна.
— Ты с дида, крале, не смейся, — понюхал дед табаку из тавлинки, — заходил это ко мне человек божий, дак говорит, что вы, диду, избрали благую часть, что у вас тут любо да тихо, как в ухе, а там, говорит, на Брацлавщине, стоном стон стоит, паны захватывают в свои руки предковечные степи, отнимают от наших людей дедовское добро... Налетит, говорит, с ватагою пан — и только пепел да кровавые лужи остаются от людского поселка.
— Боже правый! — всплеснула руками Ганна.
— То-то, моя жалобнице! Так если бы сюда, на нашу краину, налетели такие коршуны-лиходеи, как ты думаешь, крале, — я усидел бы в пасике? Ого-го! Да коли б на дида не хватило кривули, так я с косой бы пошел... с уликом... Думаешь, не пошел бы? Ого!
— Верю, верю, диду, — взглянула на него ласково Ганна, — а вот у меня души нет за дядька Богдана...
— Э, панно, — мотнул бородой дед, — за дядька не бойся, не такой он... Козачья душа у Христа за пазухой...
Дед направился к калитке, а Ганна повернулась и увидела, что на пороге светличных дверей стоит престарелый «профессор» старшего сына Богдана, Тимка{50}.
— Ясновельможная панно, — жаловался он, держа на широком поясе сложенные руки, — с юною отраслию славного рода вельможного панства познания идут зело неблагопотребно.
Сморщенное, как печеное яблоко, лицо жалобщика с клочковатой бородой и торчащей косичкой было крайне комично.
— А что, ленится разве Тимко?
— Смыкает зеницы, дондеже не воспрянет от бремени науки.
— Я, отче Дементий, попрошу его, — улыбнулась Ганна.
— «Наука потребует дрюка», — рече Соломон мудрый, — поклонился низко «профессор», — впрочем, если панская ласка, то просил бы сырцу малую толику и свиного смальца.
— Идите к Мотре, она все выдаст.
«Профессор» с низким поклоном ушел, а Ганна обернулась к Юрку и увидела, что головку его поправляла уже сутуловатая, почтенного вида старуха, в длинной, повязанной вокруг очипка и лица белой намитке, концы которой спускались сзади до самого долу, и в темного цвета халате — особого рода женской верхней одежде, почти исчезнувшей ныне в народе.
— Бабусю-серденько, — обратилась к ней Ганна, — а что это Мотря приходила еще за харчами, прибавилось молотников, что ли?
— Какое молотников, — вздохнула старуха, — со всех концов, дальних даже мест, сбегается люд — то погорелый, то от виселиц и канчуков, то сироты...
— Матерь небесная! — побледнела Ганна и порывисто встала. — Отнесите Юрка, а я пойду распоряжусь... Всех нужно устроить, пригреть.
— Да вот они и ждут тебя.
— Боже! Спаси нас! — произнесла дрогнувшим голосом панна и под наплывом горьких тревог и тяжких предчувствий тихо пошла в людскую, наклонив низко голову. «Там, в углу Сулы, — думалось ей, — теперь напряглись все наши силы, там кладут головы за волю борцы, там льется кровь за родную землю, и что же сулит нам судьба? Может, это предвестники ее бесчеловечного приговора?»