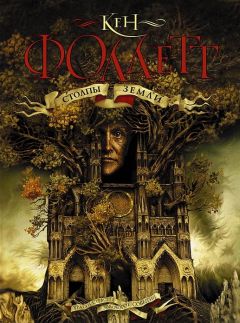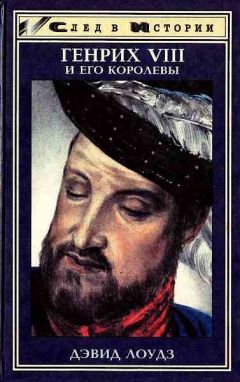Начал Питер с того, что отказался от мяса и съедал лишь половину полагающегося ему хлеба. Он пил только воду из ручья да разбавленное пиво и не притрагивался к вину. Он сделал замечание молодому здоровому монаху за то, что тот попросил добавки каши, и довел до слез юношу, который шутки ради выпил чужое вино.
«…Нет основании упрекать монахов в чревоугодии», — размышлял приор Филип, спускаясь вместе с остальными братьями с холма к скиту, где их поджидал обед. Молодые послушники были худыми и мускулистыми, а монахи постарше — загорелыми и жилистыми. Ни у кого из них не было и намека на обрюзглость, свойственную людям, которые много едят и ничего не делают. Филип считал, что монахи должны быть тощими, ибо в противном случае они могли вызвать у бедняков зависть и ненависть к слугам Божьим.
Характерно, что Питер замаскировал свое обвинение под покаяние.
— Грех чревоугодия лежит на мне, — сказал он, когда однажды утром монахи, прервав работу, расселись на поваленных деревьях и принялись есть ржаной хлеб, запивая его пивом. — Я ослушался Завета Святого Бенедикта, который гласит, что монахи не должны есть мясо и пить вино. — Высоко подняв голову, он обвел сидящих взглядом; его черные глаза гордо сверкнули. Взор Питера наконец остановился на Филипе. — Но сей грех есть на каждом из присутствующих.
«Печально, что у него такой характер», — подумал Филип. Питер посвятил свою жизнь служению Богу, он обладал незаурядным умом и целеустремленностью, но, казалось, у него была непреодолимая потребность постоянно обращать на себя внимание, устраивая всевозможные сцены. Он был настоящим занудой, но Филип любил его так же, как любил каждого из них, ибо видел, что за высокомерием и заносчивостью скрывалась беспокойная душа человека, который и сам не верил, что когда-нибудь ему удастся хоть в ком-то пробудить интерес к себе.
— В связи с этим у нас есть возможность вспомнить, что говорит святой Бенедикт по этому поводу. Можешь ли ты точно воспроизвести его слова, Питер?
— Он говорит: «Все, кроме немощных, да воздержатся от мясного», и затем: «Вино — не питье для монахов», — ответил Питер.
Филип кивнул. Как он и подозревал, Питер не очень хорошо помнил этот завет.
— Почти правильно, Питер. Но святой Бенедикт подразумевает не мясо, а «плоть четвероногих животных», и даже тут он делает исключение не только для немощных, но и для слабых. А кто есть «слабые»? Здесь, в нашей маленькой общине, мы считаем, что тот, кто утомился, усердно работая в поле, нуждается в мясе, дабы восстановить утраченные силы.
В угрюмом молчании Питер слушал слова приора, по его лбу пролегли морщины неудовольствия, густые черные брови сомкнулись над большим крючковатым носом, а на лице отобразилось с трудом сдерживаемое негодование.
— Что же касается вина, — продолжал Филип, — то сей праведник говорит: «Мы полагаем, что вино — не питье для монахов». Использование слов «мы полагаем» означает, что он вовсе не требует обязательно соблюдать этот запрет. Кроме того, он учит, что в день вполне достаточно выпивать пинту вина и не следует пить чрезмерно. Разве не ясно из этого, что он не настаивает на том, чтобы монахи полностью отказались от вина?
— Но он говорит, что во всем следует соблюдать умеренность.
— И ты утверждаешь, что мы недостаточно умеренны?
— Да, утверждаю, — не унимался Питер.
— «Да воздается каждому, кого Бог наградил даром воздержания», — процитировал Филип. — Если тебе кажется, что здешняя пища слишком обильная, ты можешь есть меньше. Но припомни-ка, что еще говорит праведник Бенедикт. Он ссылается на первое послание в коринфянам, в котором святой апостол Павел изрекает: «У каждого свой дар от Бога, у одного один, у иного иной» — и объясняет нам: «По сей причине нет возможности без сомнения определить, сколько пищи потребно другим». Пожалуйста, запомни это, Питер, и не спеши с выводами, размышляя о грехе чревоугодия.
Пора было снова приступать к работе. У Питера был вид мученика. Филип подумал, что не так-то легко заставить этого человека молчать. Из трех монашеских обетов — нищеты, безбрачия и послушания — только послушание никак не давалось Питеру.
Конечно, существовали меры воздействия на непокорных монахов: одиночное заключение, хлеб с водой, порка и в конечном итоге отлучение от церкви и изгнание из монастыря. Обычно Филип без колебаний применял эти наказания, особенно в тех случаях, когда кто-нибудь из братьев пытался посягнуть на его власть. И в результате он снискал себе славу поборника строгой дисциплины. На деле же он ненавидел наказания, ибо это вносило в монашеское братство разлад и уныние. Однако в случае с Питером наказание не принесло бы никакой пользы, а только сделало бы его еще более непокорным и неумолимым. Филипу нужно было что-то придумать, чтобы сломить его гордыню и в то же время умиротворить. Это было не так-то просто. Но Филип успокоил себя, подумав, что если бы в этом мире все было так просто, то тогда люди не нуждались бы в Боге.
Когда они достигли поляны, на которой стоял скит, Филип увидел, что недалеко от того места, где паслись козы, стоит брат Джон и энергично машет им рукой. Звали его Джонни Восемь Пенсов, и был он немного слабоумным. «Чем это он так взволнован?» — удивился Филип. Рядом с Джонни сидел человек, одетый в сутану священника. Его внешность показалась знакомой, и Филип прибавил шагу.
Священник был невысоким, плотным человеком лет двадцати пяти, с коротко остриженными черными волосами и светящимися живым умом ярко-голубыми глазами. Смотреть на него было для Филипа то же самое, что смотреть в зеркало. Изумленный, он узнал в священнике своего младшего брата Франциска.
На руках Франциск держал младенца.
Трудно сказать, кому Филип удивился больше — брату или ребенку. Тем временем вокруг них столпились монахи. Франциск встал, передал малыша Джонни, и Филип крепко его обнял.
— Каким ветром тебя занесло сюда?! — радостно воскликнул он. — И откуда этот ребенок?
— Почему я здесь, я расскажу тебе позже, — ответил Франциск. — Что же касается этого дитяти, то я нашел его в лесу лежащим в полном одиночестве около горящего костра… — Он замолчал.
— И… — промолвил Филип.
Франциск пожал плечами:
— Больше мне нечего сказать, потому что это все, что мне известно. Я надеялся добраться сюда еще вчера вечером, но не рассчитал, так что мне пришлось провести ночь в сторожке лесника. На рассвете я снова тронулся в путь и с дороги услышал плач ребенка. А через минуту увидел и его самого. Я подобрал бедняжку и привез сюда. Вот и вся история.
Филип недоверчиво взглянул на крошечный комочек, который держал Джонни. Он неуверенно протянул руку, приподнял краешек покрывала и увидел сморщенное розовое личико, открытый беззубый ротик и плешивую головку — еи-ей, маленькая копия старого монаха. Еще чуть-чуть приоткрыв покрывало, Филип разглядел хрупкие плечики, трясущиеся ручки и крепко сжатые кулачки. Из живота младенца торчала отвратительная на вид обрезанная пуповина. «Неужели так и должно быть?» — изумился Филип. Она была похожа на заживающую рану, и, наверное, лучше ее не трогать. Он заглянул еще дальше.
— Мальчик, — сказал Филип, смущенно кашлянув, и опустил покрывало. Кто-то из послушников хихикнул.
Внезапно Филип почувствовал себя совершенно беспомощным. «Что же мне с ним делать? — размышлял он. — Кормить?»
Ребенок заплакал, и этот пронзительный детский плач, словно гимн человеческой жизни, тронул его до глубины души.
— Он хочет есть, — заволновался Филип, а про себя подумал: «Я-то откуда это знаю?»
— Но мы не можем его покормить, — сказал один из монахов.
Филип чуть было не выпалил: «Почему не можем?» — но вовремя понял почему: на многие мили вокруг не было ни единой кормящей женщины.
Однако оказалось, что Джонни уже решил эту проблему. Сев на скамью с закутанным в подол сутаны младенцем, он окунул скрученный в жгут кончик полотенца в бадью с молоком и, подождав, пока ткань как следует впитает жидкость, сунул его в ротик малыша. Тот пососал и сделал глоток.
Филип почувствовал некоторое облегчение.
— Неглупо придумано, Джонни, — удивленно сказал он.
— Я уже так делал, когда умерла коза, у которой был сосунок, — гордо заявил Джонни, улыбаясь во весь рот.
Собравшиеся внимательно следили, как Джонни повторял свое нехитрое действие. Филипу было забавно видеть, что в тот момент, когда Джонни подносил мокрый кончик к губам ребенка, некоторые монахи тоже непроизвольно раскрывали рты. Кормление таким способом занимало довольно много времени, но, очевидно, в любом случае это, должно быть, дело непростое.
Питер из Уорегама, глядя на младенца, на некоторое время поддался всеобщему умилению и забыл свою привычку критиковать все на свете, но потом наконец оправился и произнес: