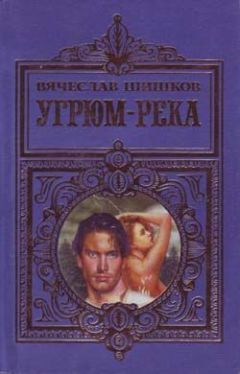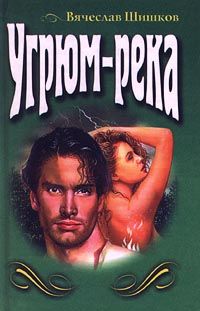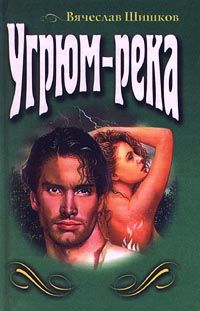– «Да, ты не ошибся. Я – Синильга. А хочешь, я в тебя залезу, и ты с ума сойдешь...»
У Прохора зашевелились на затылке волосы. Крепко запахнув халат, он подбежал к камину. Пусто. Лишь страх сгущался по углам. Грудь Прохора дышала вперебой со свистом.
– Черт, дурак!.. Набормотал глупостей. Вот и погрезилось. Осел! – Он позвонил. – Позови сюда дьякона, – сказал он лакею; тот переступал с ноги на ногу, мялся. – Ну, что? Ты слышал? И чтоб водки захватил. Впрочем, к черту! Беги к Иннокентию Филатычу, чтоб шел сюда.
– Слушаюсь. – И лакей повернулся на каблуках.
– Стой! Не надо. Садись. Сиди здесь. В шахматы играешь?
– Плоховато, барин.
– Дурак... Тогда – убирайся... Впрочем, стой! Помоги одеться мне. А пока садись. Садись, тебе говорят!
Лакей сел. Прохор позвонил по телефону:
– Контора? Правителя дел сюда. Да, да, я! – Прохор насупил брови. – Слушайте, приготовьте мне к завтрашнему вечеру сводку нашей задолженности угля дороге. Что? Что-о-о? Кто приехал? Какая приемочная комиссия? Вот так раз. Сам Приперентьев? Гоните в шею, в зубы, башкой об стену! Впрочем, не надо! Ах, сволочи! Ну ладно. Я буду там.
Прохор сорвал с себя халат и, размахивая им, стал торопливо ходить по кабинету.
– Кто это там воет? – крикнул, остановился и швырнул халат к стене.
– Волк, барин.
– Я не волк! Я не волк! Я Прохор Громов. Барин есть барин, а волк есть волк... Сапоги! – Обуваясь, бубнил: – Пусть отбирают. Пусть, пусть. Мне теперь ничего не жалко. Протестуются векселя? Знаю!.. Механический завод стоит? Знаю... Пароход затонул? Знаю... Все знаю, все понимаю, – крах идет, крах идет! Ну и наплевать! Сначала я всех жрал, теперь меня жрут. Наплевать, наплевать, наплевать!.. Врете, сволочи, подавитесь, не вы меня, а я вас сожру с сапогами вместе. Уж поверь, старик. Слушай, Тихон, милый!.. Покличь отца. Он мерзавец. Он не имел права интриги с Анфисой заводить, я Анфису люблю до сумасшествия. Он подлец! Я ему в морду дам. Покличь его.
Старый Тихон, державший наготове брюки, кротко улыбнулся и сказал:
– Ваш папашенька, барин, в селе Медведеве изволят жить.
– Ах, с Анюткой? А ты знаешь, старик, что Анютка была моей любовницей?
– Неправда, барин. Это вы на себя клеветать изволите. Это было бы очень ужасно и для вас, и для папашеньки.
Прохор, вздохнув, улыбнулся и, застегивая брюки, сказал:
– Хороший ты человек, Тихон. Эх, жизнь прожита! И я был бы хорошим. Будь Анфиса жива, мы бы с ней наделали делов... Ну, ладно. Давай жилетку. Теплый полушубок приготовь. Грешный я, грешный, брат, человек... Грешный, каюсь. А тебя люблю. Только пожалей меня, в обиду не давай. Я так и в завещании... Богат будешь... Богу молись обо мне. Чувствую, что отравят. Покличь-ка Петра с Кузьмой.
Вошли караулившие у входа два здоровенных бритых дяди в сюртуках и белых перчатках.
– Вот что, ребята, – сказал им Прохор Петрович, встряхивая полушубок. – Нина вам платит жалованье и душеспасительные книжки раздает. А я вам по пяти тысяч. В завещании. Только – поберегите меня! Не давайте в обиду. В морду всех бейте. Идите, ребята, Кузьма с Петром. Лошади готовы? Ну, прощай, Тихон. – Прохор обнял его и поцеловал.
Старый лакей уткнулся носом в грудь хозяина, искренне завсхлипывал.
Прохор Петрович говорил с поспешностью, одевался с поспешностью и с поспешностью ушел.
Кучер подал лошадь, Прохор мельком осмотрел себя, чтобы удостовериться, не забыл ли переодеть халат, сел в пролетку, отпустил кучера, взял в горсть вожжи и поехал один. Ему некого теперь бояться: Ибрагима нет в живых, и шайка его разбита. Следом за хозяином и тайно от него выехали доктор Апперцепциус, с ним Кузьма и Петр и четыре вооруженных верховых стражника.
Кабинет пуст. По углам кабинета чахнет страх, неслышный, холодный, пугающий. Страх дожидается ночи, чтоб, окрепнув, встать до потолка, оледенить пылающий мозг хозяина и, оледенив, бросить в пламя бреда.
Старый Тихон прибирает кабинет и, поджав губы, покашивается на углы: в углах кто-то гнездится, дышит. Тихона одолевает оторопь. Тихон передергивает плечами, крестится, на цыпочках спешит к двери. Кто-то норовит схватить его сзади за фалды фрака. Тихон опрометью – вон.
Страхом набиты покои Громовых, кухня, службы. Страх, как угар, разметался далече во все стороны.
В страхе, в томительном ожидании сидели у постели больного Ферапонта люди. Иннокентий Филатыч сокрушенно вздыхал и сморкался в красный платок. В бархатных сапогах – ноги его жалостно подкорючены под стул. «Господи, помилуй... Господи, помилуй», – удрученно, не переставая, шептал он.
Дьякон величаво строг, но плох. Делавший ему операцию приезжий хирург определил общее заражение крови. Борясь с недугом, дьякон бодрится. По его просьбе Нина Яковлевна доставила в его палату граммофон. «Херувимская» Чайковского сменяется пластинкой с ектеньями столичного протодьякона Розова.
Ферапонт морщится.
– Слабо, слабо, – говорит он. – Когда я служил у Исаакия, я лучше возглашал: сам император зашатался.
Отец Александр горестно переглядывается с Ниной; Манечка, вся красная, вспухшая от слез, подносит платок к глазам.
Дьякон просит поставить его любимую пластинку – Гришку Кутерьму и деву Февронию из «Града Китежа».
Знаменитый певец Ершов дает реплику деве Февронии:
– Как повел я рать татарскую,
На тебя – велел всем сказывать...
Дева Феврония испуганно вопрошает:
– На меня велел ты, Гришенька?
– На тебя.
– Ой, страшно, Гришенька, Гриша.
Ты уж не антихрист ли?
– Что ты, что ты! Где уж мне, княгинюшка.
И трогательно, с нервным надрывом, который тотчас же захлестывает всех слушающих, Гришка Кутерьма с кровью отрывает слова от сердца:
– Просто я последний пьяница!
Нас таких на свете много есть:
Слезы пьем ковшами полными,
Запиваем воздыханьями.
Ответных слов Февронии – «Не ропщи на долю горькую, в том велика тайна Божия» – уже почти никто не слышит. Всякому ясно представляется, что этот спившийся с кругу, но по-детски чистый сердцем умирающий дьякон Ферапонт имеет ту же проклятую судьбу, что и жалкий, погубивший свою душу Гришка. Ясней же всех это чувствует сам дьякон. В неизреченной тоске, которая рушится на него подобно могильной глыбе, он дико вращает большими, воспаленными, глубоко запавшими глазами, и широкий рот его дрожит, кривится. Последнее отчаянье, насквозь пронзая сердце, вздымает его руки вверх (левая рука в лубке); с гогочущим воплем, от которого вдруг становится всем жутко, он запускает мозолистые пальцы себе в волосы и весь трясется в холодных, как хрустящий саван, сухих рыданиях.
Пластинка обрывается. Входит хирург. Сквозь истеричные, подавленные всхлипы собравшихся сердито говорит:
– Волнения больному вредны.
Нина вскидывает на него просветленные, в слезах, глаза и снова утыкается в платок.
Мрачный Прохор, погоняя гнедого жеребца, ехал емкой рысью. На перекрестках, где пересекались две лесные дороги, его встретил похожий на гнома горбатый карла с мешком. Карла бережно поставил возле себя мешок, замаячил руками, замычал. Прохор осадил коня. Кланяясь и безъязыко бормоча «уаа, уаа», немой карла подал Прохору Петровичу письмо с печатью исправника «Ф. А.» и наверху – княжеская корона. Слюнявые губы карлы сжаты в кривую ухмылку. Прохор привязал коня, вскрыл конверт и стал разбирать вихлястый, весь в спотычках, необычный почерк Федора Степаныча. «Пьяный, должно быть, царапал», – подумал он.
«Прохор Петрович! Который выстрелен из пушки, это не Ибрагим. Вчера я поймал Ибрагима, отсек ему голову. Подаст вам это письмо несчастный карла. Я, мерзавец, мучил его, держал на цепи в Чертовой избушке, заставлял делать фальшивые деньги. Он передаст тебе мешок с головой черкеса Ибрагима-Оглы. Живите, Прохор Петрович, в полном спокойствии, а я теперь по-настоящему отправляюсь в дальний отпуск, в Крым. Прощай, прощай, голубчик Прохор...
Исправник Федор Амбреев».Письмо было в каплях, в потеках – будто дождь или слезы, на уголке размазана кровь. Мрачный Прохор сразу весь просветлел: «Наконец-то черкес убит!» – стал быстро выворачивать карманы, отыскивая, чем бы в радости наградить карлу. Денег не было. Прохор снял дорогие часы, спросил:
– А где же все-таки сам исправник?
Но карлы не было. Мешок стоял прислоненным к сосне. И в версте позади, таясь в перелеске, маячили стражники с лакеями и доктором. Они боялись попасться на глаза хозяину.
Прохор привстал на колени и, волнуясь, раскрыл мешок. На дне мешка лукошко. В лукошке вверх лицом голова исправника Федора Амбреева.
Прохор широко распахнул по-страшному глаза и рот. В его душе вдруг скорготнул, как пилой по железу, раздирающий сердце визг. Морозом сковало дыхание. Гримаса оглушающего ужаса взрезала его лицо. Брови скакнули на лоб. Он сразу понял, что его поразило безумие.
– Федор! Федор!! – наконец закричал оцепеневший Прохор Петрович. Но его крепко перепоясала вдоль спины по полушубку чья-то плеть. Прохор вскочил. Плеть стегнула его по голове с уха на ухо.