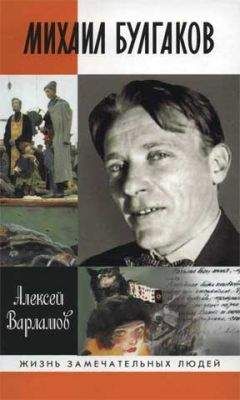– Я принесу сейчас. Ты лежи спокойно, я сейчас приду.
– Иди, только не кричи. А то ты кричишь как сардинка.
Потом съел кусочек рыбы, выпил чаю холодного. Велел считать ему пульс. Был очень раздражителен. Пульс – 70, не наполненный, но ровный. Стал жаловаться на состояние. „Чувствую, что умру сегодня“. Уложила, села рядом. Был потный, стонал. Стал засыпать. Часов в 5.30 сказал сквозь сон: „Мне теперь хорошо, иди спать“. Заснул около 6» [74; 115–116].
Раздражительность умирающего Булгакова подтверждается и другими источниками.
«К нему допускают только по одному человеку и только с утра, т. к. вечерами у него врачи, процедуры, он чувствует себя плохо и очень раздражителен <…> Он тяжело болен, плохо выглядит, грустно настроен» [48; 189], – писала младшая сестра Булгакова Елена Афанасьевна старшей сестре Надежде 17 ноября.
«11. XI. 1939 г. Проснулся в 10.15 утра. Раздражителен, недоверчив. Рассказывал, что видел людей, которых нет в комнате (например, сегодня утром К. Федина), чаше всего меня, иногда Сергея… Говорил: „Вместо внимания – чуткость, внушение к человеку. Придет этот Бобрович… я хотел сказать Александр Александрович, как его… Фадеев“» [74; 115–116].
Имя Федина позднее отразится в отрывочных воспоминаниях Елены Сергеевны: «Когда Миша был уже болен, и все понимали, что близок конец, стали приходить – кое-кто из писателей, кто никогда не бывал… Так, помню приход Федина. Это – холодный человек, холодный, как собачий нос. Пришел, сел в кабинете около кровати Мишиной, в кресле. Как будто – по обязанности службы. Разговор не клеился. Миша, видимо, насквозь все видел, понимал. После его ухода сказал: „Никогда больше не пускай его ко мне“» [21; 312].
Что же касается Фадеева, то генеральный секретарь Союза советских писателей А. А. Фадеев впервые появился в булгаковском доме в половине октября вскоре после того, как состоялся разговор между Сталиным и Немировичем-Данченко о Булгакове. По всей вероятности, именно благодаря Фадееву месяц спустя больной отправился в санаторий в Барвиху, о котором писал сестре Елене: «Это великолепно оборудованный клинический санаторий, комфортабельный. Больше всего меня тянет домой, конечно! <…> Лечат меня тщательно и преимущественно специально подбираемой и комбинированной диетой. Преимущественно овощи во всех видах и фрукты. Собачья скука и от того и другого, но говорят, что иначе нельзя, что не восстановят меня иначе, как следует. Ну, а мне настолько важно читать и писать, что я готов жевать такую дрянь, как морковь» [13; 529].
Но верил ли сам в выздоровление?
«Чувствую я себя плохо, все время лежу и мечтаю только о возвращении в Москву и об отдыхе от очень трудного режима и всяких процедур, которые за три месяца истомили меня вконец, – писал он Попову 6 декабря. – Довольно лечений!» [13; 529–530]
А еще три недели спустя, накануне последнего в своей жизни Нового года, признавался в последнем письме Гдешинскому:
«Ну, вот, я и вернулся из санатория. Что же со мною? Если откровенно и по секрету тебе сказать, сосет меня мысль, что вернулся я умирать. Это меня не устраивает по одной причине: мучительно, канительно и пошло. Как известно, есть один приличный вид смерти – от огнестрельного оружия, но такового у меня, к сожалению, не имеется» [13; 530–531].
«Лицо его заострилось. Он помолодел. Глаза стали совсем светло-голубые, чистые. И волосы, чуть встрепанные, делали его похожим на юношу. Он смотрел на мир удивленно и ясно, – писал в мемуарах Ермолинский. – Очень часто заходили друзья – Дмитриев, Вильямс, Борис Эрдман (брат Николая Робертовича, художник), забегал Файко, живший по соседству, на той же лестничной площадке. К постели больного приставлялся стол. Мы выпивали и закусывали, а он чокался рюмкой с водой. Он настаивал, чтобы мы выпивали, как раньше бывало. И для нашего удовольствия делал вид, что тоже немного хмелеет. Но вскоре эти посиделки кончились. Они стали трудны для него.
Когда он меня звал, я заходил к нему. Однажды, подняв на меня глаза, он заговорил, понизив голос и какими-то несвойственными ему словами, стесняясь:
– Что-то я хотел тебе сказать… Понимаешь… Как всякому смертному, мне кажется, что смерти нет. Ее просто невозможно вообразить. А она есть.
Он задумался и потом сказал еще, что духовное общение с близким человеком после его смерти отнюдь не проходит, напротив, оно может обостриться, и это очень важно, чтобы так случилось…
– Фу ты, – перебил он сам себя, – я, кажется, действительно совсем плох, коли заговорил о таких вещах» [43].
Говорил он эти слова, не говорил, действительно ли собирались около его кровати друзья и выпивали – кто теперь скажет?
«Я умираю, понимаешь <…> Молчи. Не говори и трюизмов и пошлостей. Я умираю. Так должно быть – это нормально. Комментарию не подлежит. <…> Я хотел тебе вот что сказать, Алеша, – вдруг необычно интимно произнес он. – Не срывайся, не падай, не ползи <…> Ты не лишен некоторого дарования, – его губы криво усмехнулись. – Обиделся, да? Нет, не обиделся. Ну ты, умница, продолжай в том же духе. Будь выше обид, выше зависти, выше всяких глупых толков. Храни ее в себе, вот эту, эту самую, не знаю, как она называется… Прощай, уходи, я устал…» [32; 352] – цитирует в мемуарах слова Булгакова его сосед, драматург Алексей Михайлович Файко, но так ли все было на самом деле?
Несомненно одно – хотя в ближайшем окружении Булгакова не оказалось писателей с большим дарованием, и по гамбургскому счету глубоких, интересных мемуаров о нем никто не написал, даже в тех строках, которыми мы располагаем, угадывается образ человека, поразившего своих современников не только своими произведениями, но и своей личностью. Они были достойны друг друга – Булгаков и его талант.
Известно, что к умирающему приходил Борис Пастернак, о чем Елена Сергеевна позднее вспоминала. «…Вошел, с открытым взглядом, легкий, искренний, сел верхом на стул и стал просто, дружески разговаривать, всем своим существом говоря: „Все будет хорошо“, – Миша потом сказал: „А этого всегда пускай, я буду рад“» [21; 312].
Автор строк: «О, Господи, как совершенны дела твои, – думал больной», по общему мнению хорошо знавших его людей, вообще обладал удивительным даром последнего утешения, он умел находить незатертые, сокровенные слова, и, хотя дружбы между сочинителем «Мастера и Маргариты» и создателем «Доктора Живаго» не сложилось и, в отличие от Ахматовой, Пастернак не оставил никаких стихотворных строк, Булгакову посвященных, сам факт встречи двух равноправных сынов века показателен.
Но самым замечательным, самым удивительным, самым верным из близких друзей Булгакова оставался философ Павел Сергеевич Попов. Довольно странно, что прижизненный биограф Булгакова не написал о нем воспоминаний (хотя перу Попова принадлежит очень краткая, емкая биография писателя), однако не в мемуарах с их неустойчивой степенью достоверности и неизбежным смещением логических акцентов, но еще при жизни своего друга в письме от 5 декабря
1939 года он успел сказать ему главное, пусть и неизбежно ситуативно возвышенное, но все равно очень точное:
«Я непрестанно о тебе думаю. И теперь, и раньше, и всегда. И за столом, и в постели, и на улице. Видаю я тебя или не видаю, ты для меня то, что украшает жизнь. Боюсь, что ты можешь не подозревать, что ты для меня значишь. Когда спросили одного русского, не к варварскому племени он принадлежит, то тот отвечал: „раз в прошлом моего народа были Пушкин и Гоголь, я не могу считать себя варваром“. Одного алеутского архиерея в старые годы, встретив на Кузнецком мосту, – а приехал он из своих снежных пустынь – спросили: как ему понравилась Москва? Он ответил: „безлюдно“, т. е. настоящих людей нет. Так вот, будучи твоим современником, не чувствуешь, что безлюдно; читая строки, тобой написанные, знаешь, что есть подлинная культура слова; переносясь фантазией в описываемые тобой места, понимаешь, что творческое воображение не иссякло, что свет, который разжигали романтики, Гофман и т. д., горит и блещет, вообще, что искусство слова не покинуло людей. Ты тут для меня на таком пьедестале, на который не возносил себя ни один артист, – эти мастера чувствовать себя не только центром зрительного зала, но и всей вселенной. Мне даже иногда страшно, что я знаком с тобой, что я говорю тебе ты, – не профанируешь ли этим благоговейное чувство, которое имеешь…» [57]
Булгаков прекрасно отдавал себе отчет в том, что дни его сочтены. Но, пока были силы, продолжал работать: правил «Мастера» и сочинял свою последнюю пьесу «Ричард Первый».
От этого текста не осталось ни одного фрагмента, не считая короткой авторской записи, относящейся к началу 1940 года:
Задумывалась осенью 1939 г. Пером начата 6.1.1940 г.
ПЬЕСА
Шкаф, выход. Ласточкино гнездо. Альгамбра. Мушкетеры. Монолог о наглости. Гренада, гибель Гренады.
Ричард I.
А дальше следовала приписка: «Ничего не пишется, голова, как котел!.. Болею, болею» [21; 389].