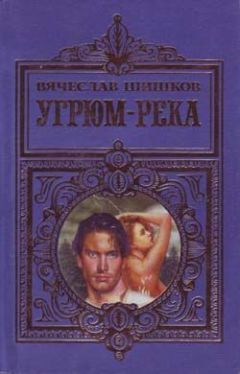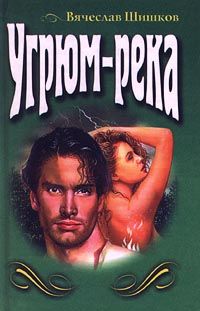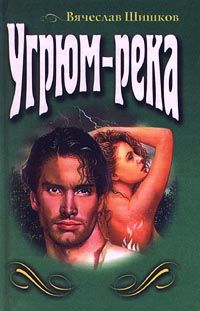Прежде чем направиться на заседание, утомленная, взвинченная Нина зашла в будуар, натерла виски и за ушами одеколоном, на минутку присела в высокое кресло и закрыла глаза.
Треволненья последних дней окончательно закружили ее, лишили сил. «Бедный, бедный Андрей... Несчастный Прохор!..» – удрученно шептала она. Эти две мысли, пересекаясь в душе, пронзали ее сердце, как стрелы. Третья же, самая главная мысль – что будет с нею, когда не станет мужа, – стояла вдали в каком-то желто-сизом тумане. Нина боялась прикоснуться к ней, подойти вплотную, заглянуть в свои ближайшие темные дни. Она только слегка прислушивалась к самой себе, усилием воли заставляла себя смотреть в будущее бодро и смело. Но всякий раз ее воля ломалась о подплывавшие к ней факты жизни, и тогда всю ее обволакивала смертная тоска.
Вот и теперь: лишь закрыла глаза, встал перед нею гневный, но такой близкий, родной Протасов. Она вдруг припомнила весь свой разговор с ним там, у костра, на опушке леса. Разговор о цели существования, о путях жизни, о проклятом богатстве. Разговор последний – разговор трагический и для нее, и для него.
Да, Протасов был, кажется, прав: надо забыть себя, надо отречься от богатства, в первую голову – спасти Андрея и вместе с ним отдать жизнь свою на благо трудового народа. Так в чем же дело?
Нина открыла глаза. Губы ее вдруг горестно задрожали. Однако она поборола в себе душевную скорбь, нюхнула нашатырного спирта и расслабленно откинулась на спинку высокого кресла, как мертвая.
– Но пойми, Андрей! Я не могу, не могу этого сделать! – отчаянно выкрикнула она в пространство. – Я скверная, я ничтожная, я не способна на подвиг! – Сильный всхлип, лицо скоробила спазма, глаза стали мокрыми, жалкими.
«Заседание. Надо спешить!» Она поднялась, освежила лицо и, взнуздав силу воли, твердо сказала себе:
– Кончено! Брошу все дела. Уеду к нему, к Андрею. Завтра же надо переговорить с Приперентьевым: может быть, акционерное общество возьмет в аренду предприятия мужа года на два, на три.
Она знала, что здоровье Прохора пошатнулось надолго. Глаза Нины красны, сердце пошло вперебой: ей было физически больно, она схватилась за грудь, вновь присела.
«Ах, как все ужасно складывается, – растерянно думала она. – Ну что ж я могу поделать со своей натурой? Боже мой, Боже мой, как это мучительно! Но ведь я же христианка, я должна быть твердой, должна удары судьбы принимать как испытание. Да, да!.. А капиталы мои все тают и тают, текут, уменьшаются. Дура я, баба я! Я ничего не умею делать, я не могу руководить работами. Я разоряю себя и детей. Ведь у меня же под сердцем второй ребенок... А какое я имею право делать своих детей нищими? Нет, нет!.. Это было бы преступлением против них. Я отвечу за это Богу. Нет, довольно! Я больше не могу, я не вправе играть в благотворительность. Кончено! И что бы я ни делала, какими бы пряниками ни кормила рабочих, все равно – я это прекрасно знаю – рабочие будут смотреть на меня как на врага, в лучшем же случае – как на полудурка-барыню». И снова из груди Нины вырвался всхлип. Буря внутренних противоречий томила ее всю. Печальный образ Протасова с улыбкой язвительного сарказма на губах проплыл в ничто. Нина, рискуя испортить прическу, схватилась за голову, и ей показалось, что нет для нее никакого просвета.
– Я дура, я противная!.. Я не могу, я не могу!.. – раздраженно притопывала она точеным каблучком в распростертую под ногами шкуру белого медведя. Медведь устрашающе скалил красную пасть, сверкал желтыми глазами, а измученной Нине представлялось, что он так же, как и Протасов, горько насмехался над ней.
В дверь постучали.
– Да, да,
– Нина Яковлевна, позвольте просить вас на заседание, – каблук в каблук и вытянув руки по швам, склонился в дверях молодой секретарь Приперентьева, питерский жох Мальчикин-Пальчикин.
Прохор Петрович с мальчишеской ухмылкой вскочил с ложа, погрозил пальцем и запер в залу дверь. Затем взял зонтик, опять поставил на прежнее место. Взял чернильницу, поставил на место. Взял халат и не знал, что делать с ним. «Ага... Да, да». Надел. Раздвинув ноги, как циркуль, он утвердился среди кабинета; что-то соображал. Постоял так минуты три, ударил себя по лбу, заглянул в маленькую дежурную пред кабинетом. Там три лакея: Тихон с Петром играют в шашки, Кузьма дремлет, склонив голову на грудь.
Стукнуло-брякнуло колечко у крыльца. «Гости идут», – сказала не то Синильга, не то сердце Прохора. Он подпоясал халат шелковым поясом, надел золотом шитые туфли, стал устанавливать рядами возле кушетки кресла и стулья.
Его горящие глаза к чему-то прислушивались, уши что-то видели: иллюзия звуков вырастала в красочные образы, а зримые краски начинали звучать.
...Звякнуло-брякнуло колечко. Прохор видит ухом, слышит глазом: звякнуло колечко – стали гости входить. Хозяин встречал их приветливо, жал руки, усаживал, с иными же только раскланивался и всех упрашивал говорить шепотом, чтоб не подслушал лакей. Гостей было множество. Уже не хватало места, где сесть, они же все прибывали чрез двери, чрез окна, чрез хайло пылавшего камина.
В передних рядах: губернатор Перетряхни-Островский, барон фон Пфеффер, прокурор Черношварц, гусар Приперентьев под ручку со своим двойником лейтенантом Чупрынниковым, еще два наглейших обидчика Прохора – купец Алтынов и его управляющий Усачев (он больно бил Прохора в Питере), еще – мясистая Дунька, Авдотья Фоминишна, хипесница. И – прочие.
– Вы, господа, меня не бойтесь, не стесняйтесь: я все вам простил, забыл все обиды ваши, – шептал Прохор Петрович, жестикулируя, и вдруг выкрикнул: – Тихон! Скамейку под ножки Авдотьи Фоминишны, сводницы!
Тихон выдвинулся зыбкой тенью из книжного шкафа, как бы взял скамейку, как бы поставил ее куда надо и, поклонившись Прохору, как бы исчез.
– Милостивые государи, – зашептал в пространство сидевший на кушетке Прохор. – Я, в сущности, пригласил вас вот зачем... Я ненавижу себя, ненавижу мир, и мир ненавидит меня. Помните, помните мой юбилей? Ну вот, спасибо. Я так и сказал тогда. А теперь я хочу... я мыслю... позвольте, позвольте... Да, да, да!.. А теперь я всеми забыт, всеми покинут, я очень несчастлив, господа...
Прохор Петрович всунул руки в рукава, опустил низко голову, обиженно замигал, а все гости вздохнули. Собачонка Клико соскочила с колен губернатора, прыгнула к Прохору и, вся извиваясь, ласково стала лизать его в щеки, в бороду, в нос.
– Ах, милая, родная собачка, – начал вышептывать растроганный Прохор Петрович. – Живешь ты без всякой ответственности за свои поступки, без всяких душевных мук. Как я завидую тебе, милая собачка. Будь здорова!.. – Прохор Петрович захлебнулся горестным вздохом, а баронесса Замойская, поправив обруч-змейку на своей прическе, из проносившегося экипажа швырнула словами: «Как не стыдно! Русский богатырь, и – хнычет». («Гэп-гэп», – промчал лихач.) Борода Прохора затряслась, он отвернулся и, сдерживая всхлипы, шептал:
– Ничего, ничего. Милая собачка, не обращай на меня внимания. Это пройдет, пройдет. Это я так... Нервы.
Тут Прохор Петрович услышал – гости насмешливо стали шептаться, раздался идиотский смешок, а Приперентьев с Чупрынниковым в один голос крикнули: «Он прогорел, он банкрот, его карта бита!» Но генерал Перетряхни-Островский грозно стукнул в пол шпагой: «Господа шулера, без намеков, бе-е-з намеков!.. Прошу не обижать хозяина». Тогда у Прохора Петровича увлажнились глаза, он вытер лицо рукавом халата, сказал:
– Ваше превосходительство! Защитите меня также от врача Апперцепциуса, еще от Нины, жены моей. Я очень сожалею, ваше превосходительство, что в тот раз не зарезал ее бритвой. А вам, генерал, назначаю в благодарность мешок золота...
И внесено было золотых мешков огромное множество. Весь кабинет залит золотом. Всюду брякали золотые червонцы, сыпалось золото, звяк оглушал, разрывал черепную коробку. Резкая боль в голове, и нечем дышать: всюду золото, золото, золото... Прохору тесно и душно. И больно.
– Вот видите, господа, сколь я богат. Я не понимаю, о каком же крахе здесь речь? – задыхаясь, сказал он, и, чтоб умерить непереносную боль, он ударился затылком о стену.
Тут собачка Клико вновь подъелозилась к Прохору и с великой нежностью облизала его, перевернулась кверху брюшком, заюлила, забрякала хвостиком. У Прохора Петровича опять затряслась борода. Он подхватил собачонку, умильно стал целовать ее в носульку, в хвост и в глаза.
А Тихон, выглядывая в приоткрытую дверь, говорил Кузьме с Петром:
– Ишь, руки свои целует, барин-то наш. Глянь, как сморщился.
– Тихон Иваныч, а ведь плачет барин-то, – удивился Кузьма.
– Пущай плачет. Лишь бы не буйствовал...
Гости меж тем приступили к хозяину с просьбой рассказать им про жизнь, про судьбу его: как он рос, как женился, как взошел на вершину могущества.
– Ну что ж! Очень рад, очень рад, господа. – И Прохор Петрович вздохнул. – Моя жизнь, господа, была, в общем, с самого детства несчастна... Что ж рассказать вам?.. Да! Вы знаете? Недавно поехал я на работы. И что же я вижу, господа? Везде на моих работах чужие хозяева. Прииск «Новый» теперь не мой... Бывало, Федотыч... Знаете, старик такой с деревяшкой?.. Бывало, как намоют пуд золота, он и бухнет из пушки... Я давал ему за это большой стакан водки. Да, да. Эх, господа, выпить бы нам! А теперь пушка моя молчит, Федотыч дремлет на улице. Зато они палят в свою пушку, на прииске «Новом»... Они, они! Я ведь знаю. Прииск мой, а золото ихнее. И все теперь ихнее. Обидно, очень обидно это, господа...