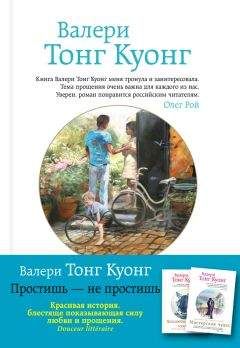Отец в ватной фуфайке зековского образца, в тёплой кепке, сдвинутой на затылок, в дорогих очках с неимоверно толстыми стёклами стоял возле мольберта и писал этюд — поленницу недавно сложенных, бодро пахнущих дачей берёзовых чурок. За спиной у него, на крыше птичьей кормушки сидел старый толстый, пушистый кот Феб. Многое меня поражало в этом коте, — и не в последнюю очередь его окрас: он менялся как у хамелеона — от палево-рыжего, до густо-бурого, захватывая в свой спектр сотни невероятных оттенков, не исключая и бледно-жёлтый, и отдающий сталью голубой. Считалось, что шкура Феба меняла окрас от освещения, но я никогда не мог найти закономерной связи между солнечными лучами и её цветом. Порою в ясный полдень Феб казался почти чёрным, а в сумерки белел, словно комок тополиного пуха. Сейчас он был умеренно-рыжим, со светлыми подпалинами на брюхе. Он придирчиво следил за кончиком отцовской кисти, имея на морде брюзгливое выражение зануды-критика, — отец время от времени поворачивался в его сторону и что-то пояснял.
Я вышел сквозь заросли черноплодной рябины и слегка кашлянул; первым отозвался кот, — он довольно резво для своих лет спрыгнул со своего насеста и, приветливо мявкая, пошёл ко мне навстречу.
— Серёжа, ты? — спросил отец, не оборачиваясь. — Извини, что не встречаю: солнце ловлю, сейчас уйдёт. Я просто вижу, как Фебка полетел на твой голос, — значит, точно, ты. Только тебя он так величает…
С котом на руках я подошёл к отцу:
— Привет, папа. А я тут проходил мимо…
Он рассмеялся и отложил кисть:
— Пошёл гулять по питерским окрестностям, и незаметно добрёл до Стрельцова? Понятно. В отпуск приехал?
— Ты дописывай, — сказал я. — Не хочу мешать.
— Да ну его! — отец поморщился с досадой. — Всё равно сейчас солнце уйдёт; не успею, не вовремя начал… А у тебя вид такой, словно ты и в самом деле пешком добирался от самого Питера. Где это тебя так угораздило?..
Я кратко описал свой утренний поход: от восхождения к облакам, до спуска в недра земли. Отец слушал меня с большим любопытством. Я спросил:
— Скажи, папа, а ты сам-то случаем не видал монаха Луку?
— Нет, — серьёзно ответил отец, — но знаю массу людей, которые его видели и заслуживают доверия.
— Массу?
— Троих, если быть точным. Но вообще-то, трое — это очень даже не мало, доложу я тебе. Если ты вдумаешься, то согласишься со мною.
Я вдумался и согласился.
— А что они рассказывали?
— Ну, ты и сам знаешь, книжки читал. Всё ведь известно.
— Почему же они не сообщили археологам?
— И это ты знаешь: не смогли вновь найти дорогу туда!
— А ты, стало быть, веришь им?
Отец загадочно улыбнулся:
— Вера — штука странная… Неопределимая… Во всяком случае, я с ними не спорил. Но люди солидные, уверяю тебя.
— И один из них, видимо, господин Василий Медников? — спросил я, неприязненно хмыкнув.
— Нет, нет! — быстро ответил отец. — Я с Медниковым редко общался, — и уж никак не заводил с ним разговор об аномальных явлениях. А ты, вижу, всё ещё держишь на него обиду за Татьяну? Не стоит, не стоит, прости покойника.
Я неопределённо пожал плечами.
— Почему-то прощать всегда достаётся мне. Самого меня, как правило, никто и за малость не извиняет.
Кот Феб выслушал меня с суровым видом, вырвался из моих объятий и гордо ушёл в дом. Отец, увидя это, засуетился:
— Давай-ка и мы следом! Что, в самом деле, на дворе-то торчать?.. Не май месяц… У меня и обед готов…
Мы прошли в дом, — хороший дом, крепкий и просторный; и если учесть, что жили в нём только отец да Феб, то даже слишком просторный. Отец купил эту дачу уже после того, как я перебрался в Питер, незадолго до смерти матери, — выложил за него всю свою Суриковскую премию. Едва мы вошли в гостиную, как я остановился, точно громом поражённый:
— Оба-на! — только и смог сказать я, разводя руками. На стене висело здоровенное полотно — портрет Таньки в натуральную величину. Собственно, это нельзя было назвать портретом: на холсте была изображена улочка возле Екатеринки, по ней, с трудом поднимаясь в гору, шла Татьяна в своём длинном широком плаще, — том самом, в котором я видел её на днях. Осенний ветер дул ей в спину, развевая полы плаща и взметая длинные Танькины волосы; в этой путанице волос лица было почти не видно, — но я-то не мог ошибиться!
Отец сперва смутился, разволновался, но потом нахмурился и сурово произнёс:
— Да, вот так! И даже если бы я знал, что ты приедешь, я бы эту работу отсюда не убрал! Извини меня, ничего лучше я за последние пять лет не писал!
— Это верно, — согласился я со вздохом. — Она что, позировала тебе?
— Нет, нет, — по памяти, только по памяти! — закричал отец, заполошно размахивая рукой. — В этом-то и фокус! Однажды встретил её возле монастыря, — она возвращалась с мужниной могилы… Даже не заметила меня, не поздоровалась, хотя всегда была вежлива… А мне как-то запало, понимаешь ли… Как-то взволновало… Этот ветер… Эти волосы…
— Отличная вещь, кто же спорит… Не надо её снимать.
Отец скинул свой тюремный ватник и остался в красной рубашке-ковбойке и грубом вязанном жилете. Всё-таки он здорово постарел за последние годы: высох больше прежнего, сгорбился… Но запал в нём, кажется, не потух.
— Скажи, пап, — начал я нерешительно, — если, допустим я снова начну подбивать клинья к Татьяне… Тебе нынешнее положение лучше известно: ты видел, как она с Медниковым жила, — и вообще… Как ты думаешь, стоит затевать такое дело?
— Конечно, нет! — бодро сказал отец воодушевлённый моей похвалой. — Нет, и не думай даже! Это не твоя женщина.
— Как это — не моя? А чья? Васина?
— Может, и была Васина, — а теперь уже нет. Но и не твоя. Поверь мне, — это всегда было видно. Бросалось в глаза! Танечка — она ведь спящая красавица… Ей нужен мужчина, который разбудит её. У тебя не получилось, — ни в малой степени! Да ты не очень-то и старался. Василий Петрович — уж как трудился, как трудился… Надорвался на этом деле и в гроб сыграл, — а она так и не проснулась, только помычала во сне да губами почмокала.
— Ты думаешь, не проснулась? Разве она его не любила?
— Любила… Не любила… Если бы люди потрудились сосчитать, сколько разных смыслов они вкладывают в слово «любовь», — мир содрогнулся бы. Одно могу сказать определённо: с ним ей было лучше, чем с тобой. Не обижайся на меня за правду. И не думай, что во второй серии вашего фильма всё будет иначе. Нет, нет.
— Но она очень хорошо меня встретила…
— Ну и что? Она вообще человек добродушный, спокойный, благожелательный. Она и со мной очень мило себя вела все эти годы: всегда поздоровается первая, поговорит, о здоровье расспросит… Я же не делал из этого далеко идущие выводы. Василий Петрович, — да, конечно… Он смог бы, наверное ей растормошить, проживи он ещё лет несколько… Хотя… Ребёночка-то она и от него рожать не захотела, — как и от тебя… Я всё знаю… Он мне как-то жаловался спьяну, на приёме в мэрии…
…Потом отец принялся показывать мне свои новые работы, — они загромождали всю гостиную, слоями стояли возле стен, неокантованные, неподписанные даже. Отец, однако, прекрасно помнил порядок этих напластований, — не глядя вынимал нужный холст из пачки и ставил его напротив окна, под медовое осеннее солнце. Среди новых работ как всегда было много видов Екатеринки, много Волковых горок, много дачи, было и несколько портретов Феба, — и очень удачных, на мой взгляд (не так-то просто изобразить кота, не впадая в сюсюканье)…
А потом вдруг пошла серия о монахе Луке. Это было весьма неожиданно.
— Я его тоже искал! — радостно пояснял мне отец. — Все у нас Луку ищут, — и я решил поискать. Но не в лесах да на горах, а в красках! Сделал тысячу подходов, холста перепортил несчётно, но вот осталось пять вариантов. Какой тебе больше глянется?
Я разглядывал работу за работой. Все они были подчёркнуто разноплановыми: этот в лубочном стиле, в сказочном… Этот чрезмерно натуралистичен, с уклоном аж в некрореализм, а здесь сладостный Лука напоминает бородатого херувимчика… Было полотно в совершенно условной манере: чёрная гора похожая формой на яйцо, и в ней, в позе эмбриона золотой человечек-куколка, — отец иногда позволял себе писать совсем условно, скупо до сухости; иногда это получалось здорово, — но не в данном случае. Очевидно, что отец понятия не имел, с какого боку подойти к нашей легенде, но с отчаянным упорством вновь и вновь шёл на приступ. Откуда бы такое рвение?
— Ну, — сказал я неуверенно. — Может быть, это? — и ткнул пальцем в картину, стилизованную под иконопись. — Во всяком случае, такая манера для этой темы всего уместнее…
— Глупости ты говоришь! — рассердился отец. — Что, за своей журналистикой живопись понимать разучился? Это не работа, это вообще позор! Я её оставил только в укор себе, чтобы не загордиться! Но сдаётся мне, что ни одна вещь сыну не понравилась?