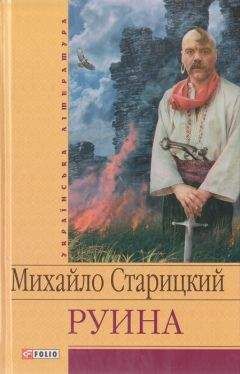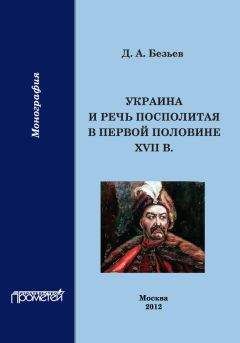— Терпи того, кого бильшина хочет!
— Го–го! Хорош же и твой подъяремный закон! — Глаза незнакомца гордо сверкнули. — Может, и теплый кожух, да только не на нас сшитый. Мы — люди вольные, и если бы даже и большинство вслед за гетманом захотело бы отчизну в неволю отдать, изменить ей, так мы этого не попустим!
— И учините бунт?
— Не бунт учиним, а измену раздавим.
Мазепа вспыхнул.
— Так доказуйте ж прежде всего, что есть измена! Кажется вам, что гетман — изменник — собирайте раду, судите его, слушайте и его оправданья, а не затевайте бунтов для полной гибели отчизны! — заговорил он запальчиво. — Измена! Ха–ха! Знаем мы это! Если кто хочет на гетманское место сесть, так сейчас и обвиняет гетмана в измене. Старая песня, брате, старая! Не этой ли самой изменой все темные дела на левом берегу творятся и расшатывают вконец отчизну. Не в измене ли обвинил славного гетмана Выговского Тетеря и сам занял его место? А, да что там! Вспомним даже покойного нашего гетмана Богдана. Не он ли вывел весь наш люд из неволи, не за ним ли встала вся Украйна? А ведь нашелся и тогда Иуда Сулима, а за ним и тысяча–другая горячих голов, которые обвинили Богдана в измене и требовали, чтобы он Сулиме гетманство отдал. Ну что ж, если бы все по–твоему судили? Сулима взял бы тогда гору, как ты думаешь, далеко бы пошла наша земля? Ха–ха! Так бы и опять к ляхам в пазури попала! Но, на счастье, тогда еще старшина держалась одного гетмана и не слушалась всяких закутных гетманишек, да и Богдан не упал духом. — Мазепа перегнулся над столом и произнес каким-то особенным настойчивым и властным голосом: — Он не отдал своей булавы в руки безумной толпе и покарал бунтовщиков.
Незнакомец молча слушал Мазепу, видно было, что и слова Мазепы, и пламенное воодушевление производят на него довольно сильное впечатление.
Мазепа провел рукою по лбу, вздохнул глубоко, словно этим вздохом он хотел облегчить свою грудь от стеснившего ее волнения, и продолжал уже более спокойным тоном:
— Так-то, друже мой… Если оно и дальше так пребудет, руина, говорю вам, настанет, руина, и больше ничего. Все это надо переменить, все надо исправить… нельзя давать вожжи в руки малым неразумным детям, — произнес он тихо и задумчиво и, поднявши голову, прибавил громко: — А пока все это станется, то не за того гетмана надо стоять, кого последняя рада избрала, а за того, кто к покою и благу отчизну ведет.
— К покою и благу! Ге–ге, пане–брате, — усмехнулся незнакомец, — да и у этой твоей правды тоже будет два конца: всякий ведь и покой и благо на свой аршин мерять станет. Вот и за Ханенком не потому только народ идет, что его рада обрала, а потому, что он обещает всем вывести Украйну из турецкой неволи, в какую задал ее гетман Дорошенко.
— Дорошенко Украйну в турецкую неволю задал?! — вскрикнул с изумлением Мазепа. — Да не может того быть. Да я вот хоть сейчас готов головой положить за то, что это ложь и клевета! Это, друже мой, наверное, его вороги выдумали, да и рассказывают всюду, чтобы баламутить против него народ.
— Нет, что правда, то правда, я бы ведь так тоже кому-нибудь с ветра не поверил!
И незнакомец принялся передавать Мазепе все сведения о раде на Расове, о привозе даров султаном и о постановленном якобы на подданство договоре.
Мазепа задумался. Еще раз и еще раз приходилось ему убеждаться в том, что союз с турками подрывает в народе авторитет Дорошенко и порождает слухи о подданстве, рабстве и даже принятий ислама… Но что делать? Куда пойти? Где искать опоры?..
— Видишь ли, друже мой, — заговорил он, когда незнакомец умолкнул. — Слыхал и я об этом деле, могу тебе самую верную правду рассказать.
— А откуда же ты знаешь? — спросил живо незнакомец и бросил пытливый взгляд на Мазепу.
— Есть у меня один приятель из гетманской канцелярии, он мне обо всем рассказал, — ответил спокойно Мазепа и принялся излагать перед незнакомцем все пункты договора с султаном и ожидавшуюся от них пользу.
Незнакомец слушал его внимательно, иногда перебивал вопросами, обнаруживавшими большое знание в делах политики, но все-таки видно было, что, несмотря на все красноречие Мазепы, договор с султаном не пробуждал в нем никаких радостных надежд.
— Нет, — произнес он наконец, — ты хоть позолоти кайданы (кандалы), а кайданы кайданами и останутся.
— Да кто же тебе говорит о неволе? — изумился Мазепа. — Сам видишь.
— Видеть-то я вижу, — перебил его незнакомец, — да и тот мужик в сказке тоже видел, что ему лисичка в сани сперва одну лапку положила, а потом увидел, что и вся с хвостом влезла. Уж басурмане, поверь мне, даром христианину помощи оказывать не станут, а если они теперь и оказывают Дорошенко помощь, так такую, какую разумная хозяйка кабану оказывает, готовясь его заколоть к празднику.
— Гм, а как же ты, брате, в таком случае за Ханенко заступаешься? — произнес с едкой усмешкой Мазепа. — Ведь и Ханенко с татарами идет?
— Что Ханенковы татаре? Ханенко татар только на время для помощи призывает, а потом так отжахает, что и детям их солоно станет.
— Так ведь и Дорошенко не навеки соединяется с султаном, а только для того, чтобы от этих самых Ханенковых татар обороняться. Когда бы не Ханенко…
— Теперь Ханенко, так, а ведь прежде Ханенко не было, а Дорошенко все к басурманам тянул.
— А для чего тянул? — Мазепа сложил руки на столе и продолжал самым равнодушным голосом: — Мне-то что, мое дело — сторона, а только всегда хорошо до самой правды дойти. Вот скажи мне, например, для чего Ханенко татар наводит?
— Для чего? Гм… ну, для того, конечно, чтобы Дорошенко с гетманства сбросить.
— Отлично. Ну, а Дорошенко для чего, по–твоему, с турками згоды ищет?
— А для того, конечно, чтобы удержать свою булаву.
— Нет, друже, не то. — Мазепа покачал головой и продолжал горячо и убежденно: — Ханенко призывает татар для того, чтобы захватить в свои руки гетманскую булаву, а Дорошенко ищет згоды с басурманом, чтобы оборонить Украйну. Да, да… Нет, постой, не перебивай меня, — удержал он незнакомца за руку. — Разберем все по правде. Если бы Дорошенко хотел только удержать в своих руках булаву, разве не проще было ему обратиться за помощью к Польше? Ведь Польше все равно, какой бы гетман на Украйне ни сидел — Ханенко ли, Дорошенко, или Суховеенко — лишь бы только такой Иуда, чтобы отчизну им продал.
При этих словах по лицу незнакомца пробегала какая- то тень.
— Почему же ты думаешь, что они только Иуду бы и приняли? — произнес он живо, с деланою улыбкой.
— Почему? Потому, что если басурмане, говоришь ты, будут нас только для того годувать, чтобы заколоть потом, так ляхи и годувать нас даже на время не станут, а так со шкурой и проглотят! Разве они забывают и теперь хоть на одну минуту, что мы их рабами и подданными были? Они и во сне видят, как бы им поскорее млеком и медом текущую Украйну назад возвратить да снова наложить ярмо на наш бедный народ. Вот почему они и станут изо всех сил поддерживать всякого Иуду, такого, как Тетеря или как Ивашко Бруховецкий, которые продадут за булаву и свою совесть, и свой народ. А честного казака, который стоит за правду и волю, они сейчас бы сожгли в медном быке. Теперь, когда они узнали Дорошенко, то не бойся, булавы уже ему не предложат! Да если бы он им на Евангелии клялся, что только о булаве своей печется, они бы не поверили ему, как не поверил бы тому и самый злейший ворог его. А ты еще говорил, что Дорошенко думает туркам Украйну отдать!
И Мазепа заговорил с увлечением о замыслах гетмана. Пламенное красноречие Мазепы производило, по–видимому, какое-то волшебное, обаятельное впечатление на незнакомца.
На дворе уже совершенно стемнело, пьяные возгласы в шинке раздавались все реже и реже; свечи нагорели, длинные сосульки застывшего сала сбежали на почерневший медный подсвечник, но увлеченные разговором собеседники не замечали ничего.
— Вот потому-то никто и не принимает под свой протекторат Дорошенко: ни Польша, ни Москва, — заключил Мазепа.
— Так что же, — возразил каким-то смущенным тоном незнакомец, — ведь и Ханенко за вольности наши идет.
— За вольности! — по лицу Мазепы пробежала саркастическая улыбка. — Так зачем же ему против Дорошенко идти, коли Дорошенко не за вольности, а за самую волю нашу идет? — Мазепа на мгновение замолчал, устремив на незнакомца пристальный взгляд. — Эх! — вскрикнул он, ударяя его по плечу, — вспомни, друже мой, притчу мудрого Соломона о двух матерях и ребенке, тогда и увидишь правду. Родная-то мать своего ребенка чужой уступала, лишь бы только он живым остался, а чужая хотела, чтобы его надвое перерубили. Так вот и Дорошенко. Разве он о своей булаве печется? О целости Украйны. А кто над ней будет гетмановать, за то он не стоит. Вспомни, разве не хотел он уступить свою булаву даже Бруховецкому, лишь бы соединить Украйну?
Незнакомец со вниманием слушал Мазепу, видно было, что речь его уже западала ему глубоко в душу, но при последних словах брови незнакомца нахмурились.