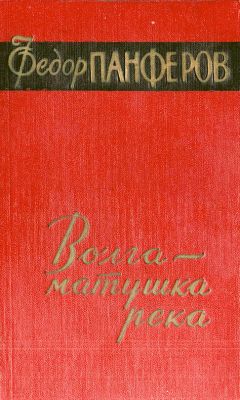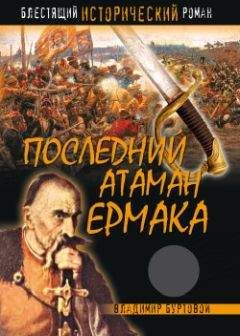— Ну, похерятъ… вашего брата не херить нельзя.
Купецъ понялъ и только вздыхалъ потомъ всю ночь и молился послѣ этого объясненія.
Когда Душкина привели къ дому атамана и велѣли ему лѣзть наверхъ, навстрѣчу ему вышла мордовка Ордунья.
— Хозяинъ съ бѣляночки? спросила она ворчливо.
— Да, былъ хозяинъ… глухо отозвался Душкинъ.
— А теперь-то…
— А теперь вотъ…
— Что, вотъ? окрысилась Ордунья, будто обидѣлась.
Но купецъ не отвѣтилъ и вздохнулъ.
— А ты бы не шлялся по Волгѣ-то… Ишь, вѣдь прытокъ! Сидѣлъ бы въ Казани-то своей на печи и не мотался но свѣту. Вонъ я крысъ ловлю въ горшокъ… которая знаетъ свое подполье, та не попадаетъ… А которыя шустры лазать изъ дыръ, да гулять, тѣ, знамо, въ горшокъ и въ рѣчку! Хозяйка, я чай, дома-то осталась… а?
— Да… горемычная…
— И ребята есть, небось! допрашивала Ордунья.
— Пятеро.
— Пятеро? Ишь вѣдь; поплачутъ объ тебѣ, сиротами будутъ.
Купецъ опять вздохнулъ тяжело.
— Ну, иди, атаманъ тутъ небось; нынче еще поживешь: за бѣляной твоей хлопоты; объ тебѣ ужъ послѣ будетъ — твое дѣло терпитъ. Отпуститъ атаманъ, зайди ко мнѣ внизъ. Надо тебѣ тоже ѣсть дать; тоже, поди, голоденъ, небось.
— Нѣтъ, какой голодъ! Не до голоду, пробормоталъ Душкинъ. Да и что-жъ брюхо по пусту, зря начинять, коли помирать велятъ.
Купецъ, дѣйствительно, не ѣлъ ничего второй день, но и на умъ ему не шла пища.
— Помирать-то, думалъ онъ, лучше съ пустымъ животомъ, чѣмъ съ набитымъ; съ пустой утробой на тотъ свѣтъ предстанешь, такъ даже грѣха меньше.
Атаманъ сидѣлъ у своего стола, когда купецъ вошелъ къ нему въ горницу и сталъ у дверей. Устя пристально осмотрѣлъ купца и долго молчалъ. Брови его наморщились и лицо показалось хозяину бѣляны злѣе, чѣмъ у кого-либо изъ разбойниковъ.
— Тощій, плюгавый парень, а куда, поди, злючій и отчаянный, подумалъ онъ. По всему душегубъ нераскаянный. Отъ едакого милости не жди. Звѣрь лютый.
А Устя думалъ, глядя на купца:
— Глупъ знать, а не прытокъ. Жадность на барыши ихъ обуяла; завидки взяли торгаша на рубли астраханскіе — вотъ и попалъ къ намъ.
И, помолчавъ, атаманъ заговорилъ, глядя въ сторону, куда-то на стѣну.
— Откуда плылъ?
— Изъ Казани, государь.
— А родомъ казанецъ же?
— Нѣтъ, изъ Алатыря.
— Въ Казани человѣкъ знаемый?
— Какъ то-съ?
— Знаютъ тебя всѣ въ городѣ и на Верховьяхъ?
— Вѣстимо знаютъ, семь лѣтъ торгую.
Устя помолчалъ и кусалъ верхнюю губу.
— Какъ звать?
— Андронъ Душкинъ.
— Семейный аль холостъ?
— Семья. Жена и дѣтей пятеро; теперь сироты будутъ! вздохнулъ купецъ.
— Да, это ужъ такое дѣло… не при на рожонъ, цѣлъ будешь. Шелъ въ Астрахань аль только въ Камышинъ?
— Въ Астрахань хотѣлось, да вотъ вы тутъ случились; грѣхъ и вышелъ.
— Я, чай, упреждали тебя не ходить въ нашу сторону.
— Да… вѣстимо, да думалъ — авось, Богъ милостивъ — пройду. А теперь вотъ разоренье дому и смерть. Хоть бы душеньку-то вы на покаяніе отпустили, а добро — Богъ съ нимъ; это дѣло нажитое. Ась?
Послѣднія слова купецъ произнесъ робко, будто боялся услышать изъ устъ атамана окончательное подтвержденье того, чего уже ждалъ заранѣе.
— Душу-то отпустить… Вѣстимо, помиловать всякаго можно… пробормоталъ Устя… да не вашего брата купца.
— Что-жь такъ? Чѣмъ купецъ хуже. Тотъ же человѣкъ, душа Божья, христіанинъ, а не жидъ какой или песъ.
— Не жидъ и не песъ, а жалобщикъ. Вотъ что, родимый. Понялъ?
— Нѣтути, не понялъ.
— Жалобщикъ — вашъ братъ купецъ. Молодца какого изъ твоихъ, альбо хоть и всѣхъ — пускай на всѣ четыре вѣтра. Онъ опять пойдетъ въ батраки къ кому-либо, съ перепугу ко двору на деревню вернетъ, а тебя пусти, ты прямо къ воеводѣ, а то и выше, съ жалобой на разбойниковъ, что обидѣли.
Купецъ молчалъ и глядѣлъ во всѣ глаза на атамана, будто удивлялся.
— Тебя вотъ отпусти, ты прямо въ городъ жаловаться на насъ, — правда?
— Оно точно…
— Ну, вотъ…
— А можно и… зачѣмъ! Обѣщаюсь коли, то не пойду! спохватился Душкинъ.
— Обѣщаешься? усмѣхнулся Устя. Всѣ вы обѣщаетесь.
— Вотъ тебѣ… разрази меня Господь… провалиться мнѣ въ преисподнюю.
И купецъ понялъ рѣчь атамана; почуявъ возможность своего спасенія отъ смерти, посыпалъ словами. Онъ клялся и божился, что дѣтямъ роднымъ не разскажетъ о приключеніи своемъ на Волгѣ, не только не дойдетъ жаловаться воеводѣ и выдать мѣстонахожденіе атамана и шайки.
— Ну, ладно, прервалъ Устя горячую рѣчь купца — поди, поѣшь внизу. Я за тобой пришлю, когда нужно будетъ.
— Помилуй, родной. Вѣкъ буду за тебя Богу молить.
И Душкинъ повалился въ ноги атаману.
Устя равнодушно глядѣлъ на лежащую у него въ ногахъ фигуру, плотную и дюжую. Подобныя сцены повторялись въ Ярѣ постоянно, каждый разъ, какъ разбойники приводили плѣнныхъ.
Нъ шайкахъ низовья испоконъ вѣка завелось какъ бы обычаемъ, пріобрѣтеннымъ въ силу опыта, — отпускать на волю, послѣ разгрома какого-либо судна, только батраковъ, черный народъ или темный людъ, бѣдняковъ, глуповатыхъ, очень молодыхъ парней и, конечно, женщинъ съ дѣтьми. Хозяевъ, купцовъ или случайно попавшихъ въ плѣнъ помѣщика отпускать снова на волю опасались и почти всегда убивали или топили.
Причина была простая — не пустить въ городъ очевидца разгрома или разбоя, видѣвшаго мѣстность и знающаго въ лицо атамана и его молодцовъ. Подобный очевидецъ являлся предъ начальствомъ ближайшаго города не только жалобщнкомъ, но и свидѣтелемъ; онъ могъ все и всѣхъ указать и назвать, прося защиты.
Начальство, лѣнивое на подъемъ, въ данномъ случаѣ — поневолѣ должно было заступиться и принять какія-либо мѣры противъ притона душегубцевъ. Большею частью посылалась команда изъ городского гарнизона. Походы эти, впрочемъ, рѣдко достигали цѣли: шайка, которую спугнутъ съ одного мѣста Волги, переходила на другое; случалось, что послѣ горячей битвы команды съ разбойной шайкой — послѣдніе, дравшіеся отчаянно въ виду острога, кнута и Сибири, побѣждали солдатъ, шедшихъ въ походъ и дравшихся неохотно, лѣниво, а подчасъ и трусливо.
Купецъ Душкинъ зналъ эти обычаи и, съ минуты своего плѣна на бѣлянѣ, забылъ и думать о своемъ имуществѣ, а думалъ только о спасеніи жизни. Ласковость атамана его теперь обнадежила. Онъ ушелъ отъ Усти и мысленно молился, обѣщая молебны и свѣчи разнымъ угодникамъ.
Молодцы-устинцы работали безъ устали три дня и четыре ночи, разгружая бѣляну. Всѣ помогали дѣлу, даже бабы и ребятишки; даже злючая Ордунья изрѣдка приходила пособить, не упуская однако случая непремѣнно поругаться съ кѣмъ-нибудь. Одинъ Ванька Лысый, раненый въ грудь, лежалъ въ своемъ углѣ и вздыхалъ:
— Охъ, хоре мое, убили злодѣи…
Лысый, конечно, помнилъ и зналъ, что «злодѣи» настоящіе-то онъ съ товарищами, а что купецъ съ батраками защищалъ отъ разбойниковъ свое имущество и жизнь, но по отношенію къ добросердечному и горемычному Ванькѣ — и батраки съ бѣляны были злодѣи, зацѣпивъ изъ ружья самаго неповиннаго изъ всѣхъ устинцевъ.
Орликъ, у котораго плечо сильно болѣло, никому и виду не показывалъ, что раненъ, а Черному строго приказалъ въ особенности не говорить объ ранѣ ни слова самому атаману.
И только на третій день послѣ того, что Черный съ помощью другихъ молодцовъ вытащилъ пулю у эсаула, Устя узналъ объ ранѣ своего эсаула и друга.
Ефремычъ, или «Князь», знавшій все, что только творилось въ Ярѣ, узналъ и счелъ долгомъ доложить атаману.
— Нашъ вѣдь эсаулъ подшибленъ купецкими то подлецами.
— Раненъ? воскликнулъ Устя. Куда? Какъ?
— Въ плечо. Третевось Черный изъ него пулю на бѣлянѣ вытаскивалъ.
— Ну?
— Вытащилъ благополучно.
— Кто тебѣ сказывалъ? Орликъ? Черный?
— Нѣту-ти, одинъ изъ молодцевъ, что держалъ эсаула за ноги, когда пулю тащилъ Черный.
Устя тотчасъ собрался и отправился въ хату Орлика.
Эсаулъ только-что допросилъ двухъ батраковъ купца о разныхъ подробностяхъ, которыя были ему почему-то нужны, и, отпустивъ ихъ, собирался отдохнуть.
Устя вошелъ съ вопросомъ объ ранѣ.
— Эвося, хватился, родимый, разсмѣялся Орликъ;- ужъ заживать начало.
— Я не зналъ. И какъ же ты самъ мнѣ не сказался. А?.. Не грѣхъ ли, Егоръ Иванычъ? съ укоризной вымолвилъ Устя.
— Зачѣмъ? Что-жъ къ тебѣ лѣзть съ пустяками. Какое тебѣ дѣло, если кого изъ шайки поранятъ?
— Кого другого… Да… А не тебя!.. рѣзко, но съ чувствомъ, которое сказалось въ голосѣ и въ лицѣ, вымолвилъ Устя.
Орликъ замѣтилъ это и зорко глянулъ на атамана. Съ минуту глядѣлъ онъ ему въ глаза и молчалъ. Устя опустилъ глаза. Эсаулъ наконецъ вздохнулъ и понурился.
Наступило молчаніе.
Устя, очевидно, понялъ нѣчто особенное во вздохѣ и въ раздумьи Орлика и, не прерывая молчанія, сидѣлъ не двигаясь и глядя, какъ виновный.