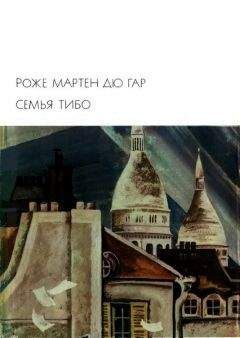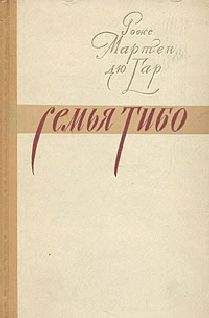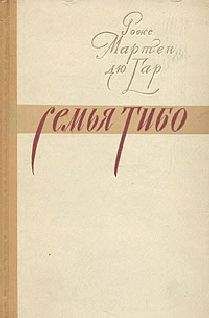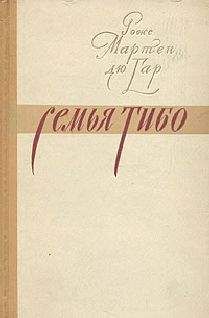И бросился мимо скал к дороге. Даниэль бежал рядом; на минуту его сердце избавилось от тяжкого бремени, сбросило груз укоров, загорелось бешеной жаждой приключений.
Они вышли к тому месту, где дорога поднималась вверх и поворачивала под прямым углом, направляясь к деревне. Достигнув поворота, они остановились как вкопанные; раздался адский грохот; огромный клубок лошадей, колес, бочек, вихляя от обочины к обочине, несся прямо на них с головокружительной быстротой; и прежде чем они успели сделать хотя бы попытку убежать, вся эта огромная масса врезалась метрах в пятидесяти от них в решетчатые ворота, которые тут же разлетелись на куски. Склон был очень крутой, огромная телега, спускавшаяся, тяжело нагруженная, с горы, не смогла вовремя притормозить; всей своей тяжестью навалилась она на впряженных в нее четырех першеронов{19}, потащила их вниз, и они, вставая на дыбы, толкая и запутывая друг друга, рухнули на повороте, опрокидывая на себя гору бочек, из которых хлестало вино. Крича и размахивая руками, обезумевшие люди сбегались к этой груде окровавленных ноздрей, крупов, копыт, бившихся скопом в пыли. Вдруг к конскому ржанию, к бренчанию бубенцов, к глухим ударам копыт о железо ворот, к звяканью цепей и воплям возниц примешался какой-то сиплый скрежет, который враз поглотил остальные звуки, — это хрипел коренник, серая лошадь, шедшая впереди всей упряжки; теперь другие кони топтали ее, и она лежала на подвернутых под себя ногах, надсаживаясь от крика и пытаясь вырваться из душившей ее сбруи. Какой-то человек, потрясая топором, кинулся в самую гущу этой сумятицы; он спотыкался, падал, вставал, пробиваясь к серой лошади; вот он схватил животное за ухо и стал бешено рубить топором хомут; но хомут был железный, топор его не брал, и человек, выпрямившись, с перекошенным лицом, яростно всадил топор в стену; хрип, становясь все пронзительней, перешел в прерывистый свист, и из ноздрей лошади хлынула кровь.
Жак почувствовал, как все закачалось вокруг, он вцепился Даниэлю в рукав, но пальцы не слушались, ноги стали точно ватные, и он начал оседать на землю. Люди обступили его. Отвели в палисадник, усадили возле насоса, среди цветника, смочили холодной водой виски. Даниэль был так же бледен, как Жак.
Когда они снова вышли на дорогу, вся деревня занялась бочками. Лошадей распрягли. Из четырех три были ранены, у двух оказались перебиты передние ноги, и они рухнули на колени. Четвертая была мертва, она лежала в канаве, в которую стекало вино, ее серая голова вытянулась на земле, язык вывалился наружу, сине-зеленые глаза были приоткрыты, ноги подогнуты, словно она, умирая, пыталась сделаться как можно компактней для удобства живодера. Неподвижность этой мохнатой плоти, измазанной песком, кровью и вином, особенно бросалась в глаза рядом с судорожной дрожью трех остальных лошадей, которые тяжело дышали и бились, брошенные посреди дороги.
Мальчики увидели, как один из возниц подошел к лошадиному трупу. На его загорелом лице, в слипшихся от пота волосах, застыло гневное выражение, облагороженное своего рода серьезностью, и оно говорило о том, как тяжело переживает он катастрофу. Жак не мог оторвать от него глаз. Он увидел, как человек сунул в уголок рта окурок, который до этого держал я руке, потом нагнулся к серой лошади, приподнял вздувшийся язык, уже почерневший от мух, вложил указательный палец в рот лошади и обнажил ее желтоватые зубы; несколько секунд он стоял согнувшись, ощупывая фиолетовую десну; наконец выпрямился, в поисках дружеских глаз встретился взглядом с детьми и, даже не вытирая пальцев, испачканных пеной, к которой приклеились мухи, взял изо рта почти догоревшую сигарету.
— Ей еще не было семи лет! — сказал он, пожимая плечами. И обратился к Жаку: — Самая славная лошадь из четырех, самая работящая! Я отдал бы два своих пальца, вот этих, чтоб только заполучить ее обратно. — И, отвернувшись с горькой улыбкой, сплюнул.
Мальчики двинулись дальше; они шли вяло, подавленные происшедшим.
— Мертвеца, настоящего мертвеца, человека мертвого, ты когда-нибудь видел? — спросил Жак.
— Нет.
— Эх, старина, это потрясающе!.. У меня давно эта мысль в голове вертелась. Один раз в воскресенье, во время урока катехизиса, я туда побежал…
— Да куда же?..
— В морг.
— Ты? Один?
— Конечно. Ох, старина, ты даже себе не представляешь, как бледен мертвец; прямо как воск или вощеная бумага. Там их двое было. У одного все лицо искромсано. А другой был совсем как живой, даже глаза открыты. Как живой, — продолжал он, — и все-таки мертвый, это было ясно с первого взгляда, я даже не знаю почему… И с лошадью, ты ведь видел, совершенно то же самое… Вот когда мы будем свободны, — заключил он, — я обязательно отведу тебя как-нибудь в воскресенье в морг…
Даниэль больше не слушал. Они прошли под балконом виллы, чья-то детская рука разыгрывала гаммы. Женни… Перед ним возникло тонкое лицо, сосредоточенный взгляд Женни, когда она крикнула: «Что ты хочешь делать?» — и в ее широко раскрытых серых глазах показались слезы.
— Ты не жалеешь, что у тебя нет сестры? — спросил он помолчав.
— Конечно, жалею! Особенно насчет старшей сестры. Потому что младшая у меня почти что есть.
Даниэль с удивлением посмотрел на него. Жак объяснил:
— Мадемуазель воспитывает у нас свою маленькую племянницу, сироту… Ей десять лет… Жиз… Ее зовут Жизель, но мы все говорим просто Жиз… Для меня она все равно что сестренка.
Его глаза вдруг увлажнились. Он продолжал без видимой связи:
— Тебя ведь воспитывали совсем по-иному. Прежде всего ты дома живешь, уже как Антуан; ты почти свободен. Правда, человек ты благоразумный, — заметил он меланхолично.
— А ты разве нет? — серьезно спросил Даниэль.
— О, я, — сказал Жак, нахмурив брови, — я ведь прекрасно знаю, что я невыносим. Да оно и не может быть по-другому. Понимаешь, иногда на меня что-то находит, я ничего не помню, бью, колочу все кругом, кричу бог знает что, в такие минуты я способен выброситься в окно, даже кого-нибудь убить! Я тебе об этом говорю, чтобы ты знал про меня всё, — добавил он; было видно, что он испытывает мрачную радость, обвиняя себя. — Не знаю, виноват ли я сам, или дело еще в чем-то… Мне кажется, живи я вместе с тобой, я бы стал другим. А может, и нет… Когда я прихожу вечером домой, ох, если б ты только знал, как они со мной обращаются, — продолжал он, немного помолчав и глядя вдаль. — Папа вообще не принимает меня всерьез. В школе аббаты ему твердят, что я чудовище, это они из подхалимства, чтобы показать, как они мучаются, бедные, воспитывая сына господина Тибо, ведь господин Тибо вхож к самому архиепископу, понимаешь? Но папа добрый, — заявил он, внезапно оживившись, — даже очень добрый, уверяю тебя. Только я не знаю, как тебе объяснить… Всегда он в делах, всякие там комиссии, общества, доклады, и вечно эта религия. А Мадемуазель — она тоже: все, что происходит плохого, все идет от господа бога, это он наказывает меня. Понимаешь? После обеда папа запирается у себя в кабинете, а Мадемуазель заставляет меня зубрить уроки, которых я никогда не знаю, в комнате у Жиз, пока она ее укладывает спать. Она не хочет, чтобы я хоть минуту оставался в своей комнате один! Они даже вывинтили у меня выключатель, чтоб я электричеством не баловался!
— А твой брат? — спросил Даниэль.
— Антуан, конечно, отличный мужик, но его никогда не бывает дома, понимаешь? И потом — он мне этого никогда не говорил, — но я подозреваю, что и ему дома не очень-то нравится… Он был уже большой, когда мама умерла, потому что он ровно на девять лет старше меня; и Мадемуазель никогда особенно к нему не приставала. А уж меня-то она воспитывала, понимаешь?
Даниэль молчал.
— У тебя совсем другое дело, — вернулся Жак к прежней теме. — С тобой хорошо обращаются, тебя воспитали совсем в другом духе. Возьми, например, книги: тебе позволяют читать все что угодно, библиотека у вас открыта. А мне никогда ничего не дают, кроме толстенных растрепанных книжищ в красно-золотых переплетах, с картинками, всякие глупости вроде Жюля Верна. Они даже не знают, что я пишу стихи. Они бы сделали из этого целую историю и ничего бы не поняли. Может, они бы даже наябедничали аббатам, чтоб меня там еще строже держали…
Последовало долгое молчание. Дорога, уйдя от моря, поднималась к рощице пробковых дубов.
Вдруг Даниэль подошел к Жаку и тронул его за руку.
— Послушай, — сказал он; голос у него ломался и прозвучал сейчас на низких, торжественных нотах. — Я думаю о будущем. Разве угадаешь, что тебя ждет? Нас могут разъединить. Так вот, есть одна вещь, о которой я давно хочу тебя попросить: это будет залогом, который навечно скрепит нашу дружбу. Обещай мне, что ты посвятишь мне первую книжку своих стихов… Не указывай имени, просто «Моему другу». Обещаешь?