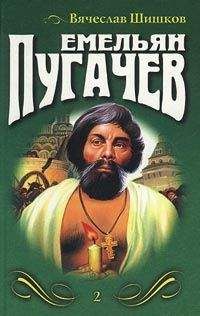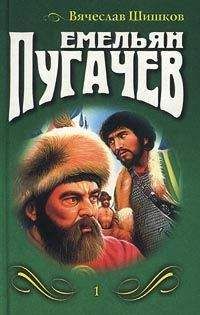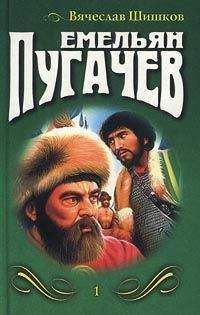— Любопытствую, — ответил Пугачёв, — из государевой армии я.
— Не заспалось, должно?
— Не заспалось, братец.
— Слых есть — быдто царь-отец самолично завод станет осматривать со всеми нашими фабричками.
— Похоже — будет. А ты кто таков сам-то, в какой должности?
— А сам я первой руки токарь по меди, Осиноватиков. А ныне надсмотрщиком поставлен. Я с семейством из выкликанцев, по вольному найму, из государева экономического села. Да отойдем, казак, к сторонке, вот тут, в уголке-то, столик мой, я тебя молоком угощу. Желаешь?
Они сели у засаленного, прокоптелого стола, возле которого тускло горел на стене масляный фонарь, стали пить густое молоко, прикусывая ржаной духмяный хлеб.
— Добрецкое молоко, — начал Пугачёв. — Вот и коровка у тебя. Стало, живешь в достатке?
— Две коровы, да две телки, да лошадь, ну там, овцы, свиньи, куры с утками.
— Ишь ты! Должно, изрядно зарабатываешь?
— Да как сказать, — ответил Осиноватиков, снимая синие очки. — Нас в семействе шестеро работников-то: я с братаном, да два сына наших, да еще отец, да дедушка, все получаем заработку в год триста двадцать пять рублей серебром, то есть, ежели расчесть, по пятнадцать копеек на день на каждого…
— Что же, маловато тебе, ай нет? — спросил Пугачёв, прищуривая правый глаз.
— Да нет, господин казак, — откликнулся мастер. — Оно и не так мало на поверку-то… Ведь ржаная мука пятнадцать копеек пуд, стало быть, мы по пуду на день зарабатываем, кажинный человек. А как полковник Зарубин-Чика Иван Никифорович от государя на наш завод был послан, он всем нам надбавку добрую учинил по вышнему царскому приказу.
— Как у вас новый управитель-то, Яков Антипов-то? — спросил Пугачёв.
— Да ничего… Только дюже строг. Правда, что не штрафует и по зубам не бьет, а требовать дело — требует.
— Он царские антиресы блюдет, — сказал Пугачёв, — ведь, поди, ныне работаете не на купца.
— А мы нешто не понимаем. Да мы и ране работали не худо, на Турецкую войну лили не мало пушек-то. Мы с понятием. И совесть в нас есть.
— Ну, а скажи ты мне без утайки, мастер, раз вы, работные люди, добропорядочно живете, так почто же себе заступника народного поджидаете, избавителя?
— А вот пошто, господин казак, слухай, — проговорил надсмотрщик, ласково коснувшись рукой колена Пугачёва. — Первым делом редкие зарабатывают, как я. А много работных людей получают по семь да по пять копеек на день. Так тут не до жиру. Что получишь, то и проешь. А взять коренного мужика. Хоша мужик и живет во множестве своем не вовсе голодно, одначе промеж крестьянства и бедности достаточно и земли у многих маловато. Только, говорю, не об этом крестьянство думушку свою думает, а думает о том, что несносные обиды ему творятся, от коих весь мир крестьянский стонет. Мужик человеком восхотел быть, вот что!
— Верно, верно! — с горячностью воскликнул Пугачёв, а надсмотрщик продолжал:
— Вот поэтому-то и бунты повсеместные, все крестьянство государя ждет, такожде и по заводам. Добер ли до нас, сирых, государь-то, господин казак?
— К барам строг, к народу-труднику — милостив.
В это время дверь распахнулась, раскачивая крутыми плечами, вошел управитель Антипов.
— Ну-ка, плавка готова? Скоро ли выпускать?
— Нет еще, Яков Антипыч, — сказал, подымаясь ему навстречу, надсмотрщик. — Часика этак через два…
— Ой, ваше величество! Так вот ты где… А мы-то тебя, свет наш, ищем, — удивленно воскликнул Антипов, приметив сидевшего у стола под фонарем Емельяна Пугачёва.
— Что?! Так это кто же будет? — перепуганно забубнил надсмотрщик, лицо его вытянулось.
— Это владыка наш! Петр Федорыч Третий, — торжественно сказал Яков Антипов.
Надсмотрщик суетливо подскочил к поднявшемуся Пугачёву и кувырнулся ему в ноги.
4
На другой день рано поутру Пугачёв с Яковом Антиповым и мастером Петром Сысоевым, заседлав коней, направились на ближайшие медные рудники, верстах в пятнадцати от завода. Рудники разрабатывались здесь открытыми шахтами от 5 до 25 сажен глубиной. Пугачёв видел, как руду засыпают в большие бадьи и вздымают наверх на ручных «валках». Этот рудник иногда затопляло. Для водоотлива была устроена «водяная машина», приводимая в движение конной тягой.
— Оные машины на Урале новшество. Твердышевы первые ввели, — говорил Антипов. — На прочих заводах медная руда из рудников идёт прямиком на завод. А у нас тут другой обряд, тоже Твердышевы завели.
— Какой же? — спросил Пугачёв.
— А вот вздымемся на пригорок. Оттуль видать.
С пригорка им открылся вид на широкую поляну с площадкой посредине.
Площадка была черна, она походила на место пожарища. Здесь производился предварительный обжиг руды в открытую, чтобы сделать её мягкой, годной к проплавке.
— По первоначалу разжигают кострище из сушняку и в огонь руду валят, — пояснил Антипов. — Дело обжига, ваше величество, тяжелое, опасное. И работы эти зовутся «огневыми».
— При обжиге, — сказал Петр Сысоев, — руда исходит ядовитым газом, самым зловредным для здоровья. Газ по земле стелется, и, ежели его погоняет ветерком на открытую шахту, рудничные работники с рудников бегут без оглядки… А то — смерть неминучая.
От сернистых газов погибали не только люди, но и все живое, вплоть до птиц, пчел и растений. Весь лес, даже сосны, пихты, елки на большое пространство вокруг стояли оголенными, без листвы и хвои.
— Когда руду здесь обожгут, — продолжал мастер, — привозят её на завод и разбивают по сортам. А крупные-то куски в толчее толкут да в мелкий порошок перемалывают. А после того заготовляют «флюс»: это известной камень, белая глина да песок. Перемешают все с дробленой медью, получится «шихт». Ну, а теперича, батюшка, поедемте не то на завод к домницам.
Вернувшись на завод, первым делом зашли в «пробницу» — лабораторию.
Это светлая изба, в средине пробирная печь с ручными мехами для дутья, на полках и на большом столе тиглы, пробирки, весы грубые и весы точные под стеклянным колпаком, пробирный свинец, бура, ступа для толчения проб.
— Здеся-ка орудует немец, — пояснил Антипов, — а иным часом и Тимофей Коза.
В углу стояло несколько четвертных бутылей с разными настойками.
— А это вот, батюшка, сладкие наливочки. Немчура сам мастерит их.
Бывало, зайдут сюда с Козой, да и пьют без выхода целую неделю. Немец жиреет, Коза чахнет.
В плавильном цехе, куда вошел Пугачёв с провожатыми, было жарко.
Каменный цех довольно просторен и достаточно высок. Вдоль одной из стен стояло в ряд пять пузатых печей, они топились дровами.
— Мы зовем их домницы, а немец называет — крумофены, — сказал Петр Сысоев.
Пылали три домны, а в две производилась загрузка. По особым, на столбах, выкатам подвозились на тачках к горловинам печей уголь и «флюс» с толченой медью, то есть «шихт». Высоко, почти под потолком, стоит работник, называемый «засыпка». Он покрикивает на тачечников:
— Эй, вы, гужееды сиволапые! Шагай, шагай! А ну, надуйсь! Стой, довольно шихту! Уголь сыпь!
Он командует загрузкой домны: пласт угля, пласт руды и флюсов, и снова пласт угля, пласт руды и флюсов. Донельзя прокоптелый, взмокший от пота «засыпка» как будто ради озорства вымазан жидким дегтем. Из трех топящихся печей наносит газом. От жары, газа, угольной и известковой пыли «засыпка» задыхается. Он не может выскочить из цеха хоть на минуту, чтобы отдышаться на свежем воздухе — его держит на месте беспрерывный ход работы. Он ковш за ковшом пьет воду, исходя чрезмерным потом. Он жалок, хил, кашляет, сплевывает копотью и кровью.
— Слышь, Яков Антипыч, — обратился Пугачёв к управителю. — И на иных прочих заводах приглядывался я к «засыпкам»; работа их, ведаешь, из трудных трудная…
— Верно, батюшка. Люди вредятся часто. Самый крепкий «засыпка» больше пяти лет не выдюжит: либо калека, либо на погост…
— «Засыпке» да еще рудокопу в подземных шахтах — одна честь, — продолжал Пугачёв, от нараставшей жарищи пятясь к двери. — Я на Авзянском самолично спускался в бадье — на лычной веревке, она у них в глыбь сажен на полсотни. Люди там по штрекам да по штольням на четвереньках ползают, как звери, а руду тягают на себе вьючно, в тележке. — Он ухватил управителя за руку, пониже плеча; управитель поежился от боли. — Как воззрился я, Антипыч, на рудокопцев-то, что середь грязищи да сырости грузность на четвереньках волокут, аж на сердце у меня захолонуло. То ли люди, то ли скотинка вьючная! А заговоришь да послушаешь любого-каждого, диву даешься: что ни слово, то — золото, ей-ей… И нет, ведаешь, промежду трудников-то этих ни ссор, ни подковырок. Одна вроде бы у всех думка — как из тьмы кромешной выкрутиться. Поднялся я на свет божий из штольни ихней да и взмыслил: эх, вот бы народа какого державе нашей, да поболе!.. — Помолчав, он строго продолжал:
— Вот что, Яков Антипыч, надлежит тебе почаще сменять «засыпок» — то этих, на другую работу ставить их. О сем, слышь-ка, строгий наказ даю тебе. А кои покалечены в работе, тех на безденежное кормление взять, навечно… Моим царским именем!