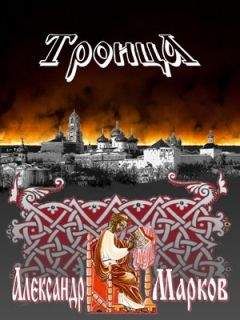Теперь вот дали, кроме сухарей, еще толокна. А ратные люди толокна не варят, как монахи, а сыплют его в холодную воду, да соли крупицу туда бросают и пьют прямо так.
А книги писать в походе куда как трудно. Выходят не буквы, а кривули нестройные и грязь. Не знаю, разберу ли сам, что нынче написал.
Насилу добрались до Дмитровской дороги. По правую руку город Дмитров, по левую — Тушино и Москва. А следов на дороге не видно.
Схоронились мы в лесу в овраге, разбили шатры, окопались снегом для тепла. Послали сторожей дорогу караулить. На обед дали нам судаков сушеных — тьфу, на вкус что бумага, а мелкие что твои ерши.
Григорий, воевода наш, посылает меня на ночь в дозор. Поеду сам-шестой. Не знаю, буду ли жив. Мороз лютый. Выпросил я себе тулупчик потеплее, а и сквозь него пробирает.
Поехали мы, как стемнело, в дозор. Ночь ясная была, месяц светил ярко и множество звезд. А всего послано было на дорогу и в рощи у дороги таких как мы сторожей десятка с три.
Сначала мы с товарищами моими совокупно ехали, а после помалу разбрелись кто куда, но не очень далеко, чтоб друг друга слышать. Я коня за шею обнял, пригрелся, стало меня в сон клонить, Внезапно услышал: вроде снег поскрипывает, как будто сани едут. Я тотчас пробудился. Гляжу: точно, сани, а в санях женочка сидит в шубе да под одеялами. А за санями два всадника, одеты как стрельцы московские, в бараньих шапках, с луками и с колчанами за плечами. Первый всадник сановитый, в летах, с длинною бородой, а второй — тощий и совсем юный, без бороды и усов, как и я. Этот второй всадник был очень красив лицом.
Хотел было я закричать, товарищей своих на помощь позвать, как вдруг мне бородатый стрелец говорит:
— Цыц, щенок! Только пикни — враз без головы останешься.
И саблей на меня замахнулся. Тут другой стрелец, безбородый, за меня вступился:
— Постой, — говорит, — Иван. Не тронь этого мальца.
А выговор у него не русский, у безбородого-то.
— Ты не Михайла ли Скопина человек? — это меня безбородый спросил. Я ответил, что точно, я княж Михайлов человек Скопина. А сам смекаю про себя: закричать — без головы останусь. Да и услышат ли мой крик? Пока я дремал, конь мой мог далеко от дороги уйти. Лес кругом незнакомый. Пищаль на таком морозе едва ли выстрелит, и на полке пороха нету. Разве с бердышом на них кинуться? И то худо: пока с бородатым буду управляться, меня безбородый из лука застрелит.
А он, безбородый, мне и говорит:
— Вот и ладно. Мы тоже за Шуйских стоим. А теперь пропусти нас, а то у нас дело неотлагательное.
Я смотрю: бородатый саблю опустил, и, похоже, убивать меня раздумал.
— Поехали, — говорю я им. — До нашего стана, там расскажете воеводе Григорию о своем неотлагательном деле.
— Этого нам не можно. Мы должны в Троицкий монастырь поспешать и самому князю Михайлу тайную грамоту передать.
И, говоря такие слова, они все трое мимо меня проезжают и в лес устремляются. Я же только успел спросить: — От кого грамота?
А они мне из-за деревьев отвечают:
— От князя Сукина и от дьяка Собакина.
Так и исчезли во тьме кромешной. Тут-то я смекнул, что провели они меня. И стало мне стыдно, что я такой трус и дурак. Закричал я во всю глотку и поскакал своих искать. Долго я ехал по лесу, и никто на мой зов не откликался. Насилу отыскал пятерых наших, и рассказал им все: дескать, проскакали мимо меня трое в темноте, назвались людьми Шуйских, а я на подмогу звал, да не мог докричаться.
Пустились мы в погоню, но тех уж и след простыл.
В ту же ночь другие наши сторожа поймали на дороге восемь воровских казаков тушинских. Утром Григорий велел для них костры раскладывать. Но они не стали ждать, пока их поджаривать начнут, а ударили челом и принисли свои вины, и вот что рассказали.
Тушинскому воровскому табору настают последние времена. Ложный царь Димитрий после бегства своего из Тушина объявился в Калуге. Его там приняли с честью, и он снова царствует, только без поляков и литвы, с одними русскими ворами. И от него пришла в Тушино грамота, в коей он, нечестивый самозванец, ругал последними словами бывшего своего главного воеводу гетмана Рожинского, а приспешников своих звал к себе в Калугу, обещая им все сокровища царской московской казны. Рожинский же никого из табора не отпускает.
И была там великая битва между поляками Рожинского и казаками, которые хотели к царику пристать. И полегло в той битве 2000 воровских казаков. А пока они бились, другие 7000 казаков убежали от Рожинского к королю Жигимонту под Смоленск.
Русские же изменники отрядили к Жигимонту посольство просить сына его, нечестивого королевича Владислава Жигимонтовича, на российский престол. А в посольстве том поехали под Смоленск подлейшие из изменников — Ивашка Грамотин да Мишка Салтыков (те самые, что под Троицей обмануть нас пытались и лгали, будто князь Михайло Скопин под Тверью ворам передался), а с ними Федька Андронов, да Васька Мосальский, да Юшка Хворостинин, да Федька Мещерский.
А царица воровская Маринка Мнишкова испугалась, что Рожинский ее схватит и неволею в литовскую землю отправит, и убежала тайком из табора, как прежде муж ее. Убегая, оставила она письмо польскому и литовскому войску, а в письме том такие слова:
«Покинутая и преданная теми, кто клялся защищать меня и честь мою, я вынуждена искать спасения в бегстве. Гетман Рожинский хочет меня выдать нечестивому королю Жигимонту, король же никаких прав не имеет ни на меня, ни на царство мое. А еще я знаю, что вы меня блудницей называете и всякими прочими дурными словами облаиваете. Я же, будучи царицей Московской и властительницей бесчисленных народов, ни за что не соглашусь вернуться в звание польской дворянки. Поэтому оставляю вас в твердой вере, что вы не забудете своих клятв, данных мне и моему супругу, и обещанных вам наград.»
Когда это письмо прочитали перед войском, поляки окончательно взбунтовались и едва Рожинского не убили, насилу он их отговорил. А этих казаков, которые к нам в плен попались, Рожинский послал Маринку догонять. Потому что она будто бы не в Калугу поехала к вору, а к Сапеге в Дмитров.
Воевода Григорий повелел тех казаков накрепко связать и везти поскорее в Троицу к Михаилу Васильевичу. А еще повелел на холме у дороги деревья рубить и строить острожек, чтобы надежнее дорогу охранять.
Караулим дорогу по-прежнему, только теперь уже не в овраге хоронимся, а в острожке сидим, за рублеными стенами. Вчера поймали поляков-сапежинцев, которых из Дмитрова послали за припасами. Напали мы на них всем множеством из засады. Они и защищаться не могли, потому что вовсе не ждали такого храброго и многочисленного на себя нападения. Не успели и сабель достать. Я в том деле был и вместе с товарищами моими ударил смело на еретиков.
Конь у меня добрый, татарский, гнедой масти. Ростом невысок, и может целый день без устали бежать. Но летами он уже не молод, и потому скачет не так быстро, как прочие. Цена такому коню 10 рублей. Польские аргамаки куда дороже, но их надо овсом кормить. Мой же одним сеном, или даже ветками и корой древесной пропитается, а к овсу не привык и не станет его есть, если и дать ему.
Говорю же я коне вот зачем: чтобы не винили меня в робости или нерадении. Когда мы на поляков поскакали из засады, я от товарищей отстал не ради малодушия своего, а ради того, что конь у меня нерезвый. Но была и от меня в том деле польза. Ведь это я научил Григорьевых воинов кричать ясак чудотворный, Сергиево имя. А поляки-то крепко запомнили Троицу — как услышат «Сергиев! Сергиев!», так сразу мужества лишаются, и сердца их страхом наполняются.
В лесу нынче студено, особенно на снегу спать неповадно. Изб-то нам Григорий рубить не велел, говорит, обойдемся, нам здесь недолго сидеть. Ратные люди водкой согреваются, и меня к тому приучают. Я же водки прежде не пивал и поначалу отказывался. Теперь вот отведал. Питье это на вкус горькое, однако нутро от него и впрямь согревается, а сердце веселится. Григорий же Волуев нам много пить не велит и сам не пьет. А поляки водку пьют каждый день и называют горилкою.
Ратные люди постов не блюдут, кроме главнейших четырех, и не чают в том греха.
Григорий сказал, что мы уж тут довольно постояли и пора идти на помощь Куракину. Маринка, сказывают, уже в Дмитрове. У Сапеги там людей с 2000, а еще ждет войска от Жигимонта. Жигимонт-де хочет войско послать против князя Михаила.
Я зуб сломал: в каше попался камень. Зело болит.
Поймали мы гонца Сапегина. Ехал он к Рожинскому за подмогой. Гонец этот с пытки сказал, что посланы, кроме него, еще другие гонцы. Но тех мы не поймали.
Завтра мы идем к Дмитрову; князь Куракин уже там. Сапега встретил его в поле, но не выдержал храброго натиска и бежал с позором, спрятался за крепкими стенами. Польская конница тяжелая; летом-то они сильнее наших в поле, а зимой, когда снег глубок, наши на лыжах быстрее поворачиваются и легко поляков побивают.