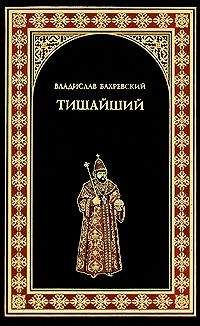Петрович вылез из избенки своей и не возрадовался, что вылез.
– Ой, да ты мать твою! Ой, да мать!.. Уу-yx! Мать твою-ю-ю! – давил в себе стон, перемогался на все Лопатищи, знать, терпеливый какой мужик. За тыном, на широком воеводском дворе Ивана Родионовича перемогался.
Петрович шмякнулся спиной об избенку, пятерней по груди завозил, замотал головой, словно самого пластовали.
Петляя по утонувшим в снегу тропкам, трусил с воеводского двора, с оглядкою, шабер Петровича Сенька Заморыш. Увидал, как попа ломает, остановился.
– Ты чего, батько Аввакум? Ай угорел?
– Терпежа нет слушать… Все забавляется, ворог мой?
– Пластует! – засмеялся Сенька. – Всех пластует! Все Лопатищи, в очередь. Я, слава господи, свое оторал.
– Чего же весел?
– А я кату посул сделал. Он и надоумил, добрая душа.
Сенька пооглядывался, присел на крыльцо, скинул валенки и стал вытягивать из-под штанин длинные толстенькие дощечки.
– Во! – И залился счастливым смехом. – По ногам лупцуют. Без валенок!. А как же? Чтоб чуял. К столбу веревкой и по ногам. А мне ничего. Только все равно ору, аж визжу. Сам Иван Родионович заступился. Ух, рявкнул! «Не обезножь, кат, мужика». Правду сказать, напоследок перепоясал меня, мерзавец, по заднице, за то, видно, что орать перестарался. Ну да задница – не ноги, на пузе посплю.
– Сколько же изверг измываться будет над людишками? – опять покрутил Петрович лохматой головой.
– Недоимков за десять лет. Да хоть до смерти запори, много не выбьешь. С палачом туда-сюда, а с царем расплатиться, хоть сам себя продавай, – кишок не хватит. И оброчные деньги требуют, и четвертные, данные, доимочные, стрелецкие. Покойный царь стрелецкие деньги в семь раз повысил. Виданное ли дело?.. А потом, ты посуди, Петрович, за десять лет народу из посада ушло – да вполовину! Кто в бега, кто в стрельцы, кто на монастырские земли переметнулся. А кто не убег, тот и плати за всех.
Дурным голосом завыла на воеводском дворе баба. Петровича передернуло, сунул пальцы в уши, в лес кинулся. Прямиком, как лось.
По лесу пахал, пока сил не стало. Повалился лицом в голубой пуховик сугроба.
– Господи! – шептал. – Возлюбим друг друга… Возлюбим друг друга… – Поднялся, махнул руками на лес, закричал что мочи: – Возлюбим друг друга! Ой, да возлюбим друг друга!
Плакал как ребенок. На снегу лежал. Когда опять поднялся, почувствовал – застыл. Синё и в небе, и на земле. Вечер.
Возликовал душой Аввакум, выбрался из снегов по следу своему, домой не заворачивая, пошел в церковь.
Служил вечерню, светом невидимым осиянный. Слезу из прихожан вышибал словом. Слово – звук, но макни его в иордань сердца – без кресала и камня высечет огонь.
В тот вечер жена Ивана Родионовича исповедалась со слезами и стоном.
Оттого, видно, воевода и стукнулся за полночь в домишко поповский.
– Отвори, Петрович! – захрипело за дверьми. – Не пужайся. Один пришел.
Аввакум отодвинул засов.
– В избу не пойду. В сенях поговорим.
Иван Родионович мужик был статный и нестарый и лицом недурен. Нос тонкий, зубы белые, ровные, глаза от висков узки, а к носу в полную луну. И все ж таки – зверь. Бог его знает, на какого нетопыря он походил, а только страшно с таким вблизи жить. Говорил медленно, словно трудно ему было языком ворочать и словно думал очень, прежде чем сказать, а думать ему было нечем. Над переносицей едва взбугрило да тотчас и поросло конским негнущимся волосом. Глаза хоть и горят, да весь огонь – бабу за подол ухватить. Ухватить бабу за подол, за подол бы ухватить… Вот и весь пых. Щеки у него лоснились, губы пунцовели. Перстни на пальцах, белых, длинных, искрами сорили. Такой воевода упрямому попу – крест и крест. Умный бы – трети не углядел, а Петровичу во всех кучах покопать нужно, расшевелить, чтоб все дерьмо поверху плыло, всем на погляд.
Тут еще строгости московские пошли: подавай новому царю налоги сполна, и про недоимки забыть тоже не захотел. Твердая рука Ивану Родионовичу как бы дождь после засухи, тосковал без указующего перста.
Лопатищи – глухомань-матушка. Для худородного дворянина оно, может, и больно хорошо: кормление, службишка… А все ж вроде бы и на выселках. Иван Родионович, конечно, рад расстараться, чтоб углядели сверху. На такой правеж Лопатищи поставил – крику не хватало кричать.
Увещевал поп Аввакум воеводу. Просил, молил, грозил… Да попу-то двадцать пять лет всего, петушок. Довел дело до бури. После вечерни прихватили на пустыре подосланные, кто по уху, кто по животу. Постукали и разбежались. Нет бы и самому до дому кряхтеть – вдогонку кинулся. У ворот воеводских другие ребята переняли. Побили на глазах у воеводы. Тот только похрюкивал.
Гордыней как колесом переехало. Ни спать Аввакум не мог, ни есть, ни службу служить. Право слово – осатанел. Бегал к воеводскому двору с колом и с огнем. Колами и отваживали от дурости.
Повесил тогда Петрович шубы на окна, отгородился от белого света и запил. Первый раз в жизни. Отец его, известный мытарь, так не пивал.
– Прости ты меня, Петрович! – сказал воевода.
– Бог простит!
Возликовал Аввакум. Как же! Одолел ворога, на поклон ворог явился. А Иван Родионович посопел в темноте да и зашушукал:
– У тебя баба моя на исповеди была?
– Была.
– Всякое такое говорила?
– Не мне, Иван Родионович, говорила, – грудью напыжился Аввакум. – Богу говорила.
– Все равно тебе. – Воевода пошелестел губами: перосохли, видать. – Держи, Петрович, ефимок, а мне про то, чего тебе баба говорила, все как есть и доложи.
Тут дверь из сенец на волю фыкнула, из сенец Ивана Родионовича выдуло, а на крыльце кособокеньком ох уж и размахнулся Петрович да со всего плеча по роже. Хруст был и вихрь – подняло воеводу на воздуси и опустило в снежную купель.
Аввакум крест сорвал с груди, вознес над головой да и грянул на все Лопатищи:
– Изыди!
На карачках уполз воевода за свой острозубый тын.
А Петрович помог Марковне с печи слезть, в узелок, что под руку попало, сгреб, да и бежали ночью, дороги торенные обходя.
Притащились в макарьевский Желтоводский монастырь.
2
Ох ты, большая вода! Да какая же ты, большая вода, умница! Без оглядки катит, без мыканья взад-вперед, вдаль все, вдаль – вечный укор, пример недостижимый.
Стоят берега, поглядывают вослед. Вот уж воистину человеческой судьбы символ. В одну сторону обратись – грядет, накатывает, в другую – безвозвратно пронеслось, а тебе – только плеск да ветром по глазам.
Вода суть время, время суть жизнь. Да вот и на воду, на большую, есть свой хомуток. Успокоилась подо льдами, утихомирилась.
Глядит Аввакум на Волгу. Сил нет взгляда отвести. Бело на сто верст.
За спиной людишки ворохаются: возы скрипят, лошади фыркают, мужики матерки роняют, монахи на высоком старославянском языке шакают да вшикают – проходит человечья жизнь.
– Ну что, дружок, раздумался больно!
Повернулся Аввакум тучей, да тотчас и просветлел.
– Иван Миронович, отец мой, здравствуй и благослови!
Стоит мужичонко в зипуне. Щеки круглые, рыжие, нос между щек круглый, рыжий, глаза синие – морг, морг, брови косицами на глаза сползают. Усы и бороденка жидкие, где рыжо, где русо, а где уж и сединой взялось.
– Славно, Петрович, что и ты сюда пожаловал. Я-то попрощаться притащился. В Москву царь зовет.
– Сам царь?! – охнул Аввакум.
– Кто бы подумать мог, а вот и до царя дошло: есть, мол, в Нижнем старатель божий. А я ведь, Петрович, много стараюсь. В великий грех впадал, плакал и жизни себя решить силился, – Господи, прости, – и били меня. Много били. И все за веру, за правду, за порицание греха. О, Петрович! Чаю, мыслишь, люди хуже волков? Волк, мол, неразумен, человек же на семи хитростях замешен? А ты поверь мне – дитя он, человек, неразумное. Слышал я про твои беды. И не говорю тебе – смирись. Живи, душа моя, как живешь. Дай Бог тебе силы. Правдой живешь. – За руку взял. – Пошли, помолимся вместе.
3
Келия, в которой остановился Иван Миронов, была и подслеповата, и тесна – двоим в ней, прежде чем поворотиться, сообразить нужно, куда ногу поставить, куда руку протянуть. Иван Неронов, так перекрестила Мироныча косноязычная молва, по своей теперешней славе мог бы в покоях игумена гостем быть, но любил он эту келейку. А теперь, когда самой Москве стал желанный человек, келия – лучше и не придумаешь. В каждом русском сидит это – постником прикинуться на пиршестве скоромном. Впрочем, Иван Неронов за собой такого греха не знал – жить напоказ.
В свои пятьдесят пять лет был он совсем старик. Поистратила жизнь христолюбца.
Родом он был с реки Сары. Из местечка Лом Водожской волости. Это верстах в шестидесяти от Вологды.
В Смутное время какая-то шайка – поляки ли, свои ли – сожгла гнездовье, всю родню вырезала. И бежал Иван от пожара и смерти в Вологду. Было ему в те поры пятнадцать лет.
В пять лет человека угадаешь, а в пятнадцать не берись. Да только не про Неронова это сказано. В пятнадцать был Иван тот же, что в тридцать. Богу молился, меры не зная. Упрям и упорен как мельничный жернов: верно насыплют – зерно перемелет, насыплют камней – камни будет молоть. Жернову – лишь бы вода колесо крутила; Неронову – лишь бы веровать, лишь бы кровь не захолодала.