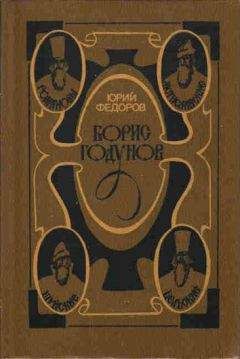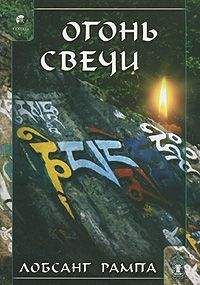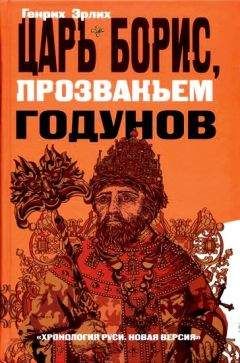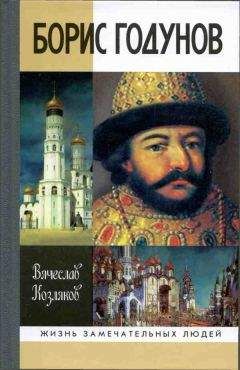— И-и-и-и! — завизжат дико, засвищут передовые в конной лаве. — Алла-инш-алла!
И загудит степь. Черная пыль поднимется до неба.
Воевода не пожалел себя. Написал твердо: орда идет. К полудню грамота была готова, и воевода вышел на крыльцо. Сам хотел доглядеть, как повезут казаки тревожную весть в Москву. Отдал свиток сотнику и, проследив, как тот спрятал его в седельную сумку, внушительно сказал:
— Послужи новому царю.
Сотник при серьезных словах сдвинул брови. Махнул властно казакам, и сторожевая станица пошла в Москву. Глядя вслед уходившим казакам, воевода довольно отметил, как запылила под копытами коней подсыхающая земля. «Ничего, — подумал, — добегут быстро. Сейчас сподручно, не то что в непогодь». Но тут же подумал: «Но оно и для крымцев степь подсохнет». С сердцем взял себя за низ лица, сжал до боли. Повернулся. Сказал стрельцам, стоящим у крыльца:
— Пленника беречь. Чтоб был жив. В Москву его повезем.
Погрозил пальцем. Строг был, и его боялись.
2
А в Москве еще валил снег. Правда, сырой, по-весеннему рыхлый, но все же снег. И ветер зло толкался в узких кривых улицах, рвал на тесовых крышах изб обмякший дерн, которым москвичи обкладывали кровли, боясь пожаров. Мужики, по утрам выходя из домов прибрать и накормить скотину или по-иному распорядиться по хозяйству, изумлялись: «Ишь ты, зима вот, не в пример другим годам, была куда как лютой и по всем приметам весне прийти рано и споро, ан нет!» Пешней попробует мужик лед во дворе, а он тверд. «Да, — скажет, посмотрев на летящие над Москвой облака, — тепло-то, оно придет, конечно, но пока вот нетути». Покашляет в кулак: долгая весна — не радость. Всему есть свои сроки. А так что ж: холодна земля, и как-то еще дальше будет? А хлебушек? В такую землю зерно не бросишь. И зябко становится мужику.
Но как ни крепилась зима, а по желтым от навоза улицам с важностью, неторопливо зашагал грач. Косился на людей круглым блестящим глазом, поклевывал конские яблочки, топырил на спинке перья, встряхивался, и чувствовалось — этот, черный, знает: быть теплу. Первая примета: грач навозец на дороге разгреб — жди весну.
В эти-то дни тревожная грамота оскольского воеводы дошла до Бориса. Бойкий дьяк на одном дыхании прочитал ее и, взглянув поверх бумаги на царя, заморгал глазами: царь смотрел на дьяка в упор, и взор его был тяжел.
Дьяк растерянно уткнулся в грамоту, подумав, что сгоряча неверно сказал какое-нибудь слово, — глаза забегали торопливо по строчкам, но все было прочитано, как написано. Дьяк к царю был взят недавно и еще не обвыкся в верхних палатах. Несмело вновь поднял лицо. Борис по-прежнему неотрывно смотрел на него, и у дьяка даже горло перехватило сухостью. И стало видно, что и рыж он, и конопат, да и глуп, и хотя научили его языком бойко чесать, а долго он в царевых палатах не продержится. Здесь другие нужны. Борис сказал:
— Еще раз прочти. Внятно.
— «Великому государю, царю…» — торопливо начал оробевший вконец дьяк, но Борис прервал:
— Суть читай.
Дьяк, шевеля губами, пробежал глазами титул и, набрав полную грудь воздуха, громко и отчетливо, слово за словом, перечитал грамоту. Место, где было сказано: «Говорено сие татарином в великой запальчивости, и посему, полагаю, лжи в словах нет…» — Борис повелел перечитать в третий раз, а вслушавшись, отвернулся. Устремил взгляд в окно. Лицо царя было необычно сосредоточенно и хмуро. Дьяк стоял столбом, боясь и бумагой зашелестеть. Уж больно задумался царь. Бровь — было видно дьяку — круто изогнулась у Бориса, и губы легли жестко.
За окном мотались корявые, голые ветви, царапали желтую слюду в свинцовых с чернотой рамах. Стучали, словно просились в тепло палат.
Борис молчал, неведомо о чем думал, но наконец, не поворачивая лица, сказал сквозь зубы:
— Ступай.
Дьяк торопливо вышел. В мыслях прошло: «Беда». Рот прикрыл ладонью: «Что-то будет?» Сел на лавку у дышащей жаром муравленой печи. Ждал: может, вызовет царь, — но так и не дождался царского приказа.
В палаты призвали Семена Никитича. Тот прошел важно, как хозяева ходят. Лицо красное, твердое, щеки подперты шитым жемчугом воротником, глаза вперед устремлены. Вот как по Большому дворцу заходил царев дядя. Для такой поступи многое надо за спиной иметь.
Дьяк вслед ему потянулся, но Семен Никитич и не моргнул. Дьяк присел на край лавки, и глаза у него закисли. Но он все ждал.
У дверей Борисовых палат торчали мрачные немецкие мушкетеры, глядя на которых трудно было и сказать, живые то люди или железные болваны.
Время, казалось, остановилось.
Борис через стол подвинул Семену Никитичу грамоту. Сказал:
— Читай. — Поджал губы.
Семен Никитич склонил голову, разбирая косо и криво бегущие строчки. Оскольский писарь был небольшой грамотей.
Борис молчал.
— Так, так, — забормотал царев дядька, — вот те на. Дождались… Говорили, слышал, говорили…
— Кто говорил? — коротко спросил Борис.
— Люди, — вскинул глаза дядька.
Твердости прежней у него во взоре приметно поубавилось. Весть оскольского воеводы словно обухом по голове ударила.
— Люди, — невнятно повторил Борис. Оперся локтем на ручку кресла и положил подбородок на сжатый кулак.
— Да ведь оно, — не сразу придя в себя, начал Семен Никитич, — чего только не болтают.
Осекся. Увидел, что лицо царя налилось гневной белизной. Да и понятно, побледнеешь… Крымцы — беда великая, страшная. Да еще и неустройства. Власть не окрепла.
— Вот что, — начал Борис странным голосом, — доподлинно узнать надо, насколько сие верно. И думаю, помочь в том могут купцы крымские. Ничего не жалей, но чтобы к вечеру правда была сыскана.
Семен Никитич торопливо поднялся, шагнул к дверям. Только что пудовыми ногами шагал, а тут засуетился, запрыгал. И так вот изменяются походки в Большом дворце. То прыг-скок, и тут же как на переломанных ходулях зашагал. Или наоборот, и, думать надо, все это оттого, что из особого дерева полы в верхних палатах настелены.
За ручку дверную взялся Семен Никитич, но Борис остановил его. Выпрямился в кресле:
— О грамоте правду не скрыть. Читана многими. Да и скрывать не след. О том же, о чем ты узнаешь, не должно знать никому.
Насупился. Надвинул на глаза брови. Повторил:
— Ничего не жалей. Иди.
Оставшись один, Борис прошагал вдоль стены, глянул уже в который раз в окно на мотающиеся под ветром стылые ветви и руку прижал к боку, под сердце, как делал всегда в минуты большого волнения.
Семен Никитич был скор. Только что видели его в царевых палатах, а он уже на Ильинке объявился. Ильинка шумела голосами. Здесь свое — торг. Купчишки кричали из-за ларей, раззадоривали люд:
— Веселей набегай, хватай, а то не поспеешь!
Сани вымахнули из-за угла, а навстречу мужик — вывороченные губы, ноздри на пол-лица. Его со смехом хлестали кнутами по полушубку мимоезжие. Загулял, видать, молодец, на перекресток выпер.
— Но, но, дорогу! — крикнул кучер Семена Никитича и жиганул мужика уже со злом. Тот покатился головой в сугроб.
У гостиного двора — затейливого, с высокой крышей, с резным коньком, обложенным красной медью, — Семен Никитич приказал придержать коней. Сопя, полез из возка. К нему кинулось с десяток купцов. Каждый спешил помочь выпростаться и, ежели повезет, утянуть в свою лавку. Но Семен Никитич ногой отпихнул одного, дал пинка другому, цыкнул на третьего, и купцы прыснули в стороны. Здесь с первого взгляда угадывали человека.
Семен Никитич утвердился на ногах и повел тяжелыми глазами. Одумался уже, перемог растерянность.
Тесно, пестро, шумно на Ильинке — лари, лари, и там и тут купчишки в пудовых шубах — заходясь на морозе, орут, перебивая друг друга. Не накричишься — не расторгуешься. Вокруг народ — Москва город людный. Глаз не соберешь на Ильинке, но Семен Никитич, что ему надо, увидел и шагнул к лавке, в дверях которой стоял высокий седобородый старик в пестром теплом халате. Тот, сложив руки у груди, с почтением низко склонился. Быстрые, острые глаза его без страха глянули в лицо царева дядьки и спрятались под опущенными желтыми веками. Татарин, отступив назад, широко распахнул звякнувшую хитрыми колокольцами дверь. Семен Никитич шагнул через высокий порог. В лицо пахнуло щекочущими запахами пряностей. Здесь, чувствовалось, не на медные гроши торговали.
Купец тщательно притворил дверь и хлопнул в ладоши. Тут же невесть откуда вынырнули юркие, смуглые мальчики, расстелили перед гостем белый анатолийский ковер, разостлали скатерть, набросали подушек, принесли бронзовые тарелки с миндальными пирожными, вяленой дыней, просвечивавшей, как пчелиные, полные меда соты, поставили блюдо с запеченными в тесте орехами. Старик купец округло, от сердца, показал гостю на подушки. Семен Никитич грузно опустился на ковер. Старик легко присел на пятки, и его бескровные губы зашелестели неразборчивые слова молитвы. Царев дядька степенно перекрестился.