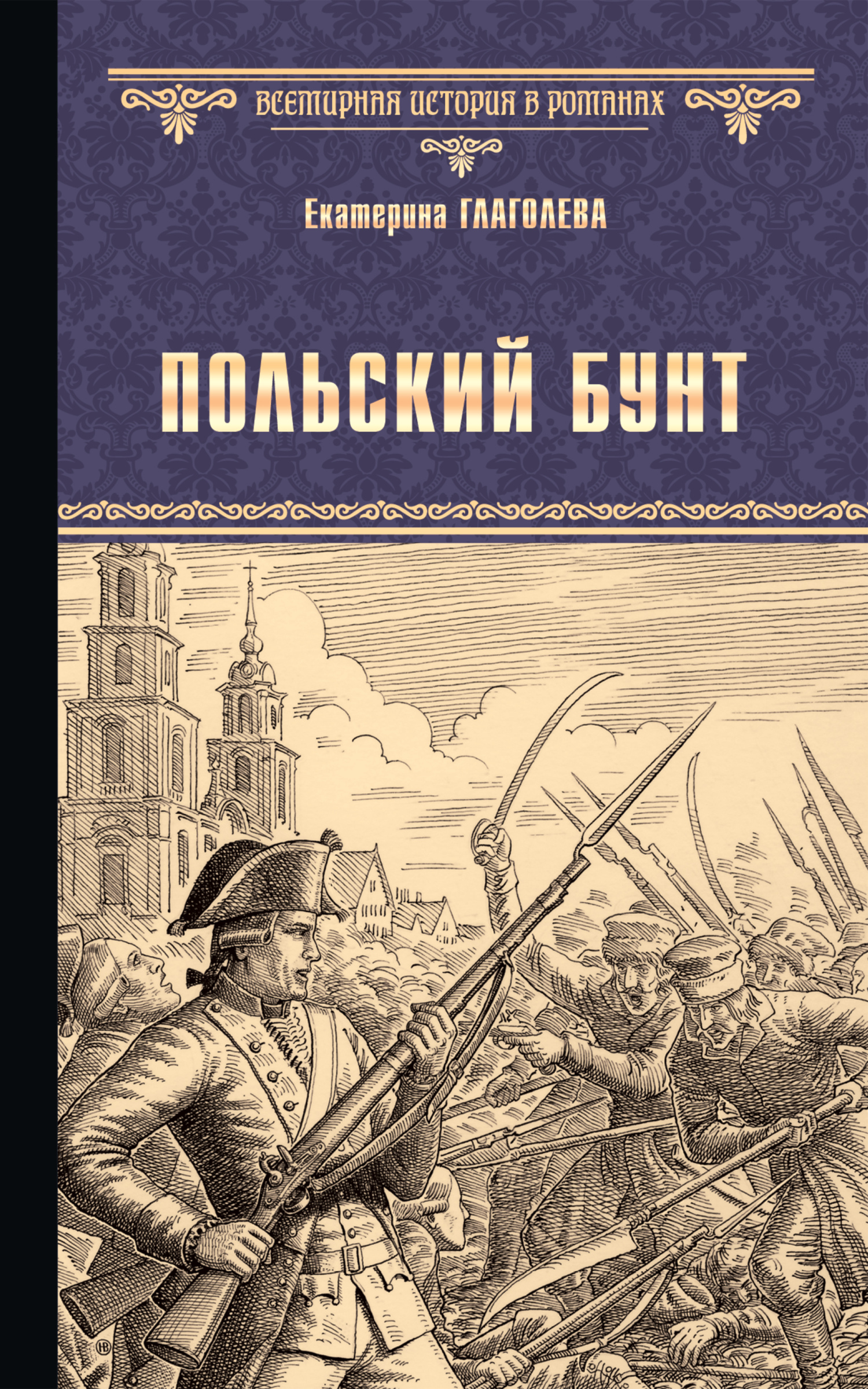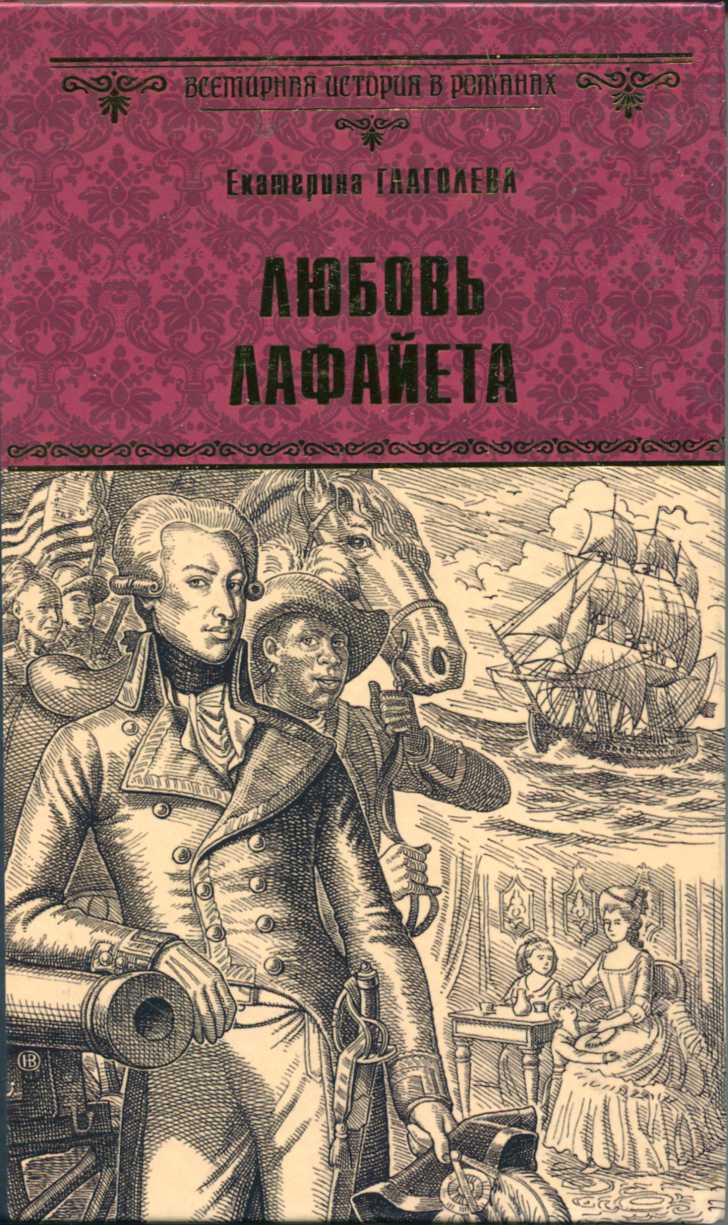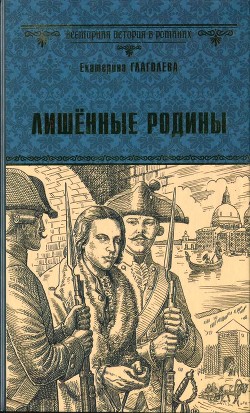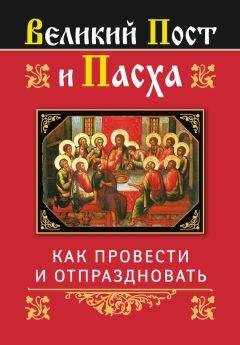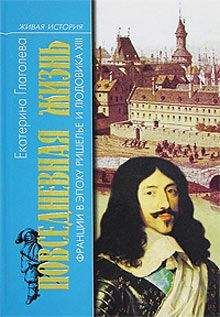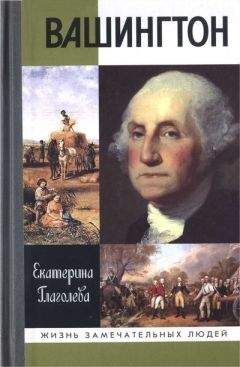напутствием, а мольбой. Он немного смутился. Потом вспомнил.
– Подожди немного!
Метнулся к столу, начал рыться в бумагах, с досадой бросая ненужные прямо на пол.
– Вот, нашел! Это тебе.
Не дав ей посмотреть, что это, он быстро сложил листок несколько раз и протянул ей; Текля, не отводя взора от его лица, спрятала листок за перчатку. Ее зрачки метались, словно ощупывая лицо любимого, как незрячие делают это кончиками пальцев, запоминая каждый изгиб, каждую выемку, каждую морщинку. Растрепанные каштановые волосы падают на высокий лоб, тонкие брови, миндалевидные глаза орехового цвета, простоватый, немного толстый нос, маленький рот со слегка выступающей нижней губой, округлый подбородок…
– Прости. Мне… пора.
Они вместе прошли в прихожую, и там Якуб быстро поцеловал ей руку над перчаткой, сжав ее пальцы в своих. Сложив ладони вместе, словно молилась о нем, Текля молча провожала его взглядом. Якуб спустился до конца лестничного пролета и обернулся в последний раз.
– Со щитом, Текля! Со щитом! – взмахнул рукой, словно потрясая этим самым щитом, и скрылся.
Текля медленно вернулась назад, в кабинет. Но здесь всё еще было полно присутствием Якуба, и от этого сердце сжалось, а слезы хлынули неудержимо. Батистовый платок уже не мог их вобрать. Текля опустила вуаль и вышла на улицу.
Дома она бережно развернула листок и перечитала его несколько раз.
Ты знаешь сам, о Боже правый,
Чего себе желаю.
Не нужен трон, не нужно славы —
Одной любви алкаю.
Рысью миновали развилку, взобрались на пригорок, откуда уже был виден помещичий хутор – беленый дом между двумя старыми липами, в три окна по каждую сторону от крыльца; покатая крыша с торчащими из нее двумя печными трубами, крытая гонтом и смотрящая двумя глазками на двор; коновязь у стены, увитой диким хмелем; кусты жимолости, подступающие под самые окна. Основной отряд Городенский оставил на дороге, с собой взял полтора десятка человек. Спешившись, они протопотали по мосткам, переброшенным через канаву, и пошли гурьбой через заросший травой двор.
Хозяин стоял на крыльце между двумя круглыми колоннами, под двускатным навесом с петушком на коньке. Позади него – еще двое, в синих свитках. Городенский остановился напротив, подождал, пока его люди выстроятся полукругом.
– Принимай гостей, пан Папроцкий! – сказал с угрозой.
– Гость в доме – Бог в доме, – отозвался хозяин с нескрываемой насмешкой. Глаза его смотрели злобно. – Кто первый сунется – угощу свинцом.
И выставил вперед пистолет.
За спиной Городенского зашептались и зашевелились. Он упер руки в боки и слегка наклонил голову набок, чувствуя, как по телу знакомо поднимается яростная дрожь.
– Напрасно пан считает, что подданство российское убережет его от мести народной и от геенны огненной, уготованной предателям! Пшишла крыска на Матыска! [16]
Грянул выстрел. Пуля просвистела мимо левого уха Городенского; сзади вскрикнул Загревский, зажав рукой рану на плече.
– Бей, руби! – Городенский выхватил саблю и ринулся вперёд.
Слуги, стоявшие за спиной Папроцкого, быстро передали ему ещё два заряженных пистолета; один дал осечку. Городенский вспрыгнул на крыльцо; Папроцкий отбил его удар пистолетом, но в это время противник толкнул его ногой в живот. Шляхтич повалился на своего слугу, помешав ему сделать меткий выстрел; на них набросились, били прикладами, кулаками и сапогами. Второй слуга убежал в сени, оттуда по коридору в кладовую и на чердак, отбросил ногой приставную лестницу и придавил чем-то сверху крышку люка. Вскоре из слухового окна вылетели две пули; на дворе, охнув, распластались двое.
– В дом, под окна! – крикнул Городенский. – В укрытие!
Лестницу приставили обратно, но крышку люка было не поднять; стрелять наугад по чердаку бесполезно. Городенский отправил пятерых человек в овин за соломой. В доме поснимали со стен трапезундские ружья и старинные ятаганы – гордость хозяина, забрали всё, что было ценного, остальное разбили, сломали, порвали в клочья. Сквозь кровь, заливавшую лицо, Папроцкий смутно различал заплывшими глазами, как под стенами его дома ходят налетчики. Потянуло дымом, затрещал веселый огонь, разгораясь. Заскрипели ступени крыльца под тяжелыми шагами. Голос Городенского: «Этих двоих…» Обмякшее тело резко рванули под мышки, и его тысячей кинжалов пронзила боль. «А с тем как быть? – Да пусть его…»
Гудел огонь басовой струной, нарастая; лопнули стекла, и он выметнулся наружу жадными рыжими языками. Крыша занялась, посылая в небо отчаянные клубы черного дыма. В треске и гуде потонул звериный крик погибающего человека. Искры долетали до старых лип; на суках болтались двое повешенных.
* * *
Поляки строились в боевой порядок. Передовые отряды состояли из крестьян-косиньеров в серых сермягах; за ними синели мундиры регулярных войск; на правом фланге – светло-зеленые уланы Мадалинского в черных широкополых шляпах, с бело-зелеными значками; слева разворачивали полевую артиллерию, за ней была конница Евстахия Сангушко. Два года назад, под Маркушувом, когда всё уже было решено, король присоединился к Тарговицкой конфедерации и велел войскам прекратить сопротивление. Несмотря на приказ, его племянник Юзеф Понятовский бросил двенадцать эскадронов в бессмысленный бой против казаков и сам уцелел лишь благодаря князю Сангушко. Понятовский потом сбежал за границу, а Сангушко, чтобы сохранить свои имения, поступил на русскую службу. Но лишь только в Кракове зазвонили колокола, он сбросил русский мундир и явился к Костюшке добровольцем… Игельстрём медленно переводил подзорную трубу вдоль линии войск. Задержался, увидев конную фигуру в серой свитке и конфедератке с султаном из петушиных перьев. Он? Костюшко? Верно, он. Напутствует своих солдат.
Осип Андреевич опустил трубу и глянул вправо, на грузную фигуру Фридриха-Вильгельма II, взгромоздившегося в седло. Треуголка надвинута на лоб поверх парика; двойной подбородок спускается на туго повязанный галстук, жилет на животе натянут, как барабан. Сейчас уже десять часов утра, он успел плотно позавтракать. Не случилось бы с ним апоплексического удара – июньский день обещает быть жарким.
Прусский король тоже смотрел в подзорную трубу. Сюда, под Щекоцины, он прибыл вместе с князем Евгением Вюртембергским, разбил лагерь в трех верстах от русского и взял на себя общее командование союзными войсками. По разделу 1793 года Пруссия отхватила себе изрядный кусок с Гданьском и Торунем, более миллиона новых подданных. Есть за что драться.
Щекоцины остались у русских за спиной; справа догорала деревня. Игельстрём велел ее сжечь, разобрав предварительно несколько изб на бревна для сооружения брустверов и флешей, за которыми укрылись артиллерийские батареи. Часть войск отвели за холм, спрятав в небольшой лесок – в резерв. Конницу поляков возьмёт на себя Федор