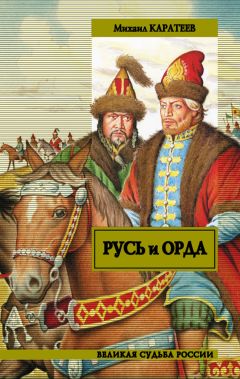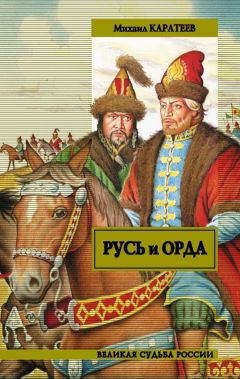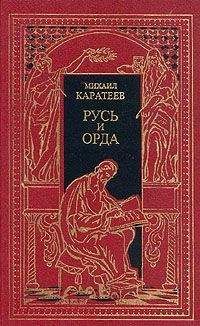— Добро, княже. Только не на Литву я отсюда поеду, а в Цареград и доведу обо всем его святости, патриарху Нилу. Коли отлучит он тебя и землю твою от Церкви, на себя пеняй!
— Страшен сон, да милостив Бог! Патриарх небось поумнее тебя! А теперь, отче, не вводи в грех, ступай отселева, покуда я тебе худшего не сказал!
Исполненный негодования, Киприан уехал, а Дмитрий сейчас же вызвал из Чухломы находившегося там опального Пимена и, — как всегда в таких случаях выражались русские летописцы, «принял его с любовию и честью на московскую митрополию».
Однако, как показало ближайшее будущее, Дмитрий Донской, не питавший к Пимену ни любви, ни уважения, предполагал оставить его во главе русской Церкви лишь временно, до посвящения в митрополиты иерарха более достойного. В поисках такового Дмитрий Иванович обратился за советом к игумену Сергию Радонежскому, который без колебаний указал на суздальского архиепископа Дионисия, человека строгой жизни, пользовавшегося на Руси всеобщим уважением.
Летом 1383 года Дионисий с грамотой великого князя отправился в Константинополь, дабы испросить у вселенского патриарха посвящение в митрополиты. Киприан, тоже находившийся в Константинополе и надеявшийся с помощью патриарха возвратиться на московскую митрополию, всячески противодействовал посвящению Дионисия, но в этом не преуспел: одряхлевшая Византийская империя клонилась к упадку и переживала трудные времена, пренебрегать желаниями главы крепнущего Русского государства она уже не могла, и Дионисий получил от патриарха сан митрополита с назначением в Москву, а Киприану была предоставлена киевская митрополия, которую он и раньше возглавлял.
Таким образом, все как будто складывалось согласно желания Дмитрия, но возможность этого, очевидно, была предусмотрена его противником: обратный путь митрополита Дионисия лежал через Киев, где его неожиданно приказал схватить Киевский князь Владимир Ольгердович, друг и покровитель Киприана. Заявив, что последний является единственным законным митрополитом всея Руси, — как Литовской, так и Московской, — и обвиняя Дионисия в намерении внести раскол и смуту в православную Церковь, он заточил его в Киеве, где этот иерарх умер в следующем году, будучи впоследствии причисленным к лику святых.
В силу этих событий на московской митрополии остался Пимен. Но под воздействием Киприана патриарх вскоре вызвал его в Константинополь, где, защищая свои права и оправдываясь в возводимых на него обвинениях, Пимен вынужден был задержаться на три с половиной года. После этого на короткое время он возвратился в Москву, но борьба против него продолжалась, вследствие чего вскоре он снова отправился в Константинополь, где и умер несколько месяцев спустя. Почти одновременно скончался и великий князь Дмитрий Иванович Донской, а в следующем году в сопровождении двух византийских митрополитов и целого сонма духовенства в Москву прибыл Киприан и утвердился на русской митрополии.
С сыном и преемником Дмитрия великим князем Василием Первым он ладил и во главе русской Церкви оставался до самой своей смерти, более шестнадцати лет. Надо признать, что для ее устроения Киприан сделал немало: будучи человеком образованным, он оставил ряд ценных трудов духовного содержания и несколько хороших переводов; внес много исправлений в русские богослужебные книги, положив этим начало огромному труду, который впоследствии завершил патриарх Никон. Но самое главное, он сурово искоренял злоупотребления и неправды, которые допускали некоторые епископы и игумены в церковном обиходе и в отношении к монастырским крестьянам, чем восстановил к себе уважение русского народа, подорванное в прошлом.
Но свою нелюбовь к Дмитрию Донскому Киприан сохранил до самой смерти, и следы этой нелюбви отчетливо заметны во многих документах и письменных памятниках эпохи.
Toe же зимы прииде посол в Москву именем князь Карач, от царя Тохтамыша к великому князю Дмитрею Ивановичю, еже о миру, с добрыми речами и с пожалованьем от царя. Князь же великий утешился мало от великия скорби и печали, и честь Тохтамышеву послу воздаде велию и многими дары одари его.
Никоновская летопись
После отъезда Киприана прошло два месяца. К наступлению сильных холодов работы по восстановлению Москвы были почти закончены, а те следы разрушений, которых еще не успела коснуться рука человека, замело толстым слоем снега. Город принял свой обычный зимний облик, — только лишь целиком выгоревший посад был теперь вполовину меньше прежнего, да редко, проходя московскими улицами, можно было услышать веселую песню или смех.
Хмур и печален был и великий князь Дмитрий Иванович. Его точили тяжелые думы.
«Не один уже раз Москва горела, — думал он, — из праха поднимать ее нам не впервой. Если бы только это! Горе же смертное в том, что Орда сызнова взяла над нами силу, ужели же втуне полегли тысячи и тьмы русских людей на Куликовом поле? Ведь хан нас на том не оставит, что пограбил московские города: опять захочет моей покорности и повелит платить ему десятину, как некогда было положено… А что сделаешь, ежели после битвы с Мамаем да после нынешнего нашествия Русь наполовину обезлюдела и все в ней пришло в расстройство? И хотя изойдет душа слезами и кровью, а придется как прежде воздеть на себя татарское ярмо… Господи, коли нет иного исхода, хоть так по милости Своей сделай, чтобы не слишком тяжким было оно!»
Подавленный этими тяжелыми мыслями, Дмитрий ожидал послов из Орды. Чего потребует хан-победитель? Неизвестность томила пуще всего, но миновала осень, наступила зима, а вестей из Орды все не было.
Наконец, уже незадолго до Рождества, от заставы, стоявшей в десяти верстах на Ордынской дороге, прискакал сын боярский Юрий Палицын и доложил: к Москве подъезжает ханский посол, а с ним человек двести нукеров и слуг.
— Ага, едут! — воскликнул великий князь, сразу ощутивший при этом известии и тревогу, и то деловитое спокойствие, которое приходило к нему в минуты опасности. — А где ты оставил тех татар?
— На заставе, великий государь. Стали они там на короткий роздых и, надо быть, через час либо полтора будут в Москве.
— А кто посол, тебе ведомо? — сам не зная почему, спросил Дмитрий. В сущности, это было ему безразлично:.не все ли равно, кто из татарских вельмож объявит ему ханскую волю и потребует точного ее исполнения?
— Ведомо, княже, — ответил Палицын. — Послом едет ордынский царевич по имени Карач-мурза.
— Карач-мурза! — вскричал Дмитрий. — Да не ослышался ли ты, часом?
— Не ослышался, великий государь, и тому верь. Не токмо нукеры нам его имя сказали, но и на заставе нашей оказался один старый воин, который его признал. Сказывает, в прежние годы уже видел его однажды послом на Руси.
— Слава Христу и Пресвятой Богородице! — перекрестился Дмитрий. — Не столь, значит, и плохо наше дело, ежели его, а не кого иного хан прислал. Скачи сей же час в обрат, на заставу, и по пути упреждай всех, чтобы ханскому послу и людям его ни в какой малости обиды либо бесчестья не было. Если кто при проезде посла шапки не скинет или худое слово татарам крикнет, с того велю голову снять! А ты, Мартос, — обратился князь к окольничему Погожеву, вошедшему вместе с гонцом, — немедля собери что ни больше бояр и боярских детей. Пусть приоденутся, как подобает, да выходят с тобою вместе к Фроловым воротам. Посла встречайте с великой честью, ровно бы самого царя встречали! Всех людей его на посольский двор, — да чтобы ни в чем у них нужды не было, — а царевича проси прямо сюда, во дворец.
* * *
Более пятнадцати лет прошло с того дня, когда князь Дмитрий и Карач-мурза в последний раз видели друг друга. И теперь, встретившись опять, каждый из них невольно подивился тому новому, что рука времени наложила на другого.
Карач-мурза, которому минуло уже сорок, внешне изменился мало. Он по-прежнему был строен и моложав, только виски и небольшая холеная бородка чуть подернулись первым инеем седины, да синие глаза его стали будто темней и печальней. Он находился в той поре, когда не ушла еще сила молодости, но ею уже управляет мудрость прожитых лет.
Зато перемена, происшедшая во внешности Дмитрия, была разительной: перед Карач-мурзой, запомнившим его юношей, стоял теперь не в меру грузный, раздавшийся вширь чернобородый мужчина, выглядевший много старше своих тридцати трех лет. Лоб его, как опущенная стрела шлема, пересекала суровая, почти никогда не расходившаяся складка, темные глаза глядели из-под косматых бровей угрюмо и устало. Но сейчас, остановившись на лице Карач-мурзы, они внезапно потеплели, тяжелая складка на лбу разгладилась, и густой голос князя прозвучал неподдельной лаской, когда он сказал: