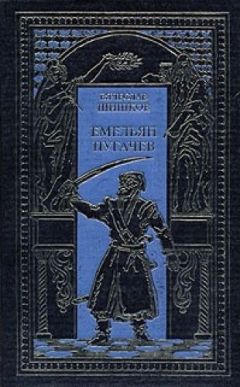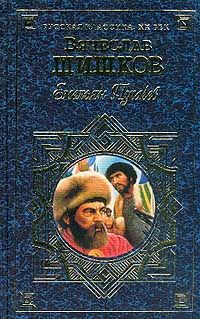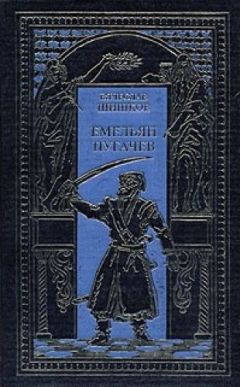— Убили паскудницу — туда ей и дорога! Эка, подумаешь, беда какая! Одной дворянкой на свете меньше стало, ну и слава Богу!.. Ха! Да ежели бы ее не убить, из-за нее полвойска перегрызлось бы. Она крученая, она и мне чуть нос не оторвала, — и он слегка подергал пальцами свой вспухнувший, в сизых кровоподтеках, нос.
— Не ври-ка, не ври, Митя! Это татарин тебя долбанул в нюхалку-то, — сказал Творогов хмуро.
Так ни с чем и отпустили Лысова, хотя все были уверены, что убийство — его рук дело. На совещании порешили: «батюшку» в подробности следствия не посвящать, а доложить только, что виновные не сысканы. О Митьке также ни слова, а то «батюшка», пожалуй, самолично с плеч голову ему смахнет — не шибко он уважает Митьку. А ведь Лысов как-никак выборный полковник, и ежели его казнить, войско-то, чего доброго, всю дисциплину порушит.
Под конец совещания подоспел Чика, да Горшков, да Мясников Тимоха. Чужих в избе не стало, за кружкой пива рассуждали про то, про се.
— Хорош-то он хорош, слов нет! — сказал Иван Творогов, когда речь зашла о государе, и криво улыбнулся. — А только вот насчет бабьего подола знатно охоч величество! Надо бы его нам сообща боронить от женских-то…
— Либо его от баб боронить, либо баб от него хоронить, — громко всхохотал Чика, покручивая пятерней курчавую, чернущую, как у цыгана, бороду. — К тебе, Иван Александрыч, кажись, Стеша твоя прибыла?
— Прибыла намеднись, — с неохотой ответил Творогов.
— Вот и держи ее под замком, а то батюшка дозрит, заахаешь, мотри.
Творогов был ревнив, а свою Стешу он считал писаной кралей.
— Мы, поди, воевать сюда пришли, а не с бабами возюкаться, — проговорил он с досадой.
— Вот это правда твоя, — подал голос пожилой, степенный Чумаков.
— Ха-ха-ха! — еще громче залился большеротый Чика. — А пошто ж ты, Федор Федотыч, вдовую-то дьячиху к себе из Нижне-Озерской уманил?
— Ври, ври больше, ботало коровье! — буркнул в бороду Чумаков, но глаза его по-молодому вспыхнули.
Тогда все разом загалдели:
— Не таись, не таись, Федор Федотыч! Видали твою духовную, вчерась она курей на базаре скупала. Всем бабочка взяла: и личиком, и станом, и выходка форсистая… Ну а ежели и култыхает по леву ногу да косовата чуть — изъяну в том большого нету.
Чумаков отмахивался, бормотал:
— Для хозяйства она у меня, при домашности. Куда мне — старый я человек, — и потягивал из кружки хмельное пиво.
Стали перемывать друг другу косточки. Оказалось, у многих крали заведены были. У Падурова — татарочка, у Творогова — собственная красоточка, законная супруга, у Чики — шестипудовая купеческая дочка, у Тимохи Мясникова тоже какая-то скрытница живет… «Вот только батюшка наш на вдовьем положении».
— Оженить бы, что ли, его? А то не приличествует государю со всякой канителиться, — сказал захмелевший Чумаков.
— Царям на простых жениться не положено, из предвека так, — с серьезностью возразил атаман Овчинников, — а какую-нито присуху подсунуть ему — это можно.
— А ведь, братцы, пригож наш батюшка-то! — выкрикнул похожий на скопца Горшков. — За него каждая пойдет. Эвот как ехал он намеднись, избоченясь, Карагалинской слободой, молодки все глаза проглядели на царя-то. А одна бабенушка до та пор голову поворачивала, глядючи на батюшку, аж в позвонках у ней хряпнуло. Ей-ей!
Все разбрелись по своим делам. Атаман Овчинников — с докладом к Пугачеву. Караул у дворца отбил в его честь артикул ружьем, но Овчинников передумал идти с парадного, прошел по черному ходу на кухню — была у него надежда перекусить, очень проголодался он.
Ермилка сидел на кухонной лавке под окнами и в зажатой меж коленями кринке сбивал мутовкой масло из сметаны. Толстые губы его в уголках были запачканы сметаной. Завидя входившего атамана, он вскочил, сунул на стол кринку, одернул фартук и, шлепая губами, крикнул атаману честь-приветствие.
— Вот что, братейник, — сказал Овчинников, — выйди-ка ты да почисти моего коня.
Ермилка взял скребницу со щеткой и тотчас же удалился. Овчинников, улыбчиво прищурив на Ненилу серые глаза, погрозил ей пальцем, молвил:
— А ты, слышь, толстая, не шибко батюшке-то досаждай великатностью-то своей женской, а то ты, краснорожая, присосешься, как пиявица, тебя и не оттянешь. А ему силушки-то на иные подвиги потребны.
Ненила бросила ухват, подбоченилась и зашумела, надвигаясь грудью на Овчинникова:
— Да ты что это, атаманская твоя душа, меня, девушку, позоришь? Да я те, за такие твои речи, из живого полбороды выдеру!
— Экая ты глупая! — засмеялся Овчинников и присел к столу. — Лучше дай-ка мне перекусить чего-нито малость.
— Знаю я твою малость, — брюзжала Ненила. — Тебе бараний бок подай — ты и его за присест умнешь. Любите вы, атаманы, батюшку обжирать, в расход казну вводить.
Ворча, она все же кинула гостю рушник, а на стол поставила миску со снедью.
Овчинников, уплетая жареные куски баранины с кашей, говорил:
— Надобно жизнь батюшке устроить попышней да поприглядней. Поди, скучает он по этой… по Харловой-то?
— И не думает, — азартно заговорила Ненила. — Он арапельником кажинную ночь ее учил.
— Ну, уж и кажинную…
— А что ж, неправду говорю? Учил, да не выучил, зря только утруждался.
— Вот ужо надо будет предоставить сюда штучки две опрятных женщин, смазливеньких, — заговорил, отрыгивая, атаман, — чтоб обихаживали его величество, как полагается во дворце: и постель прибирать, и одежу подать да почистить. А то не по-царски он живет. Страмота!
— И не смей, и не смей, Андрей Афанасьич! — замахала на него руками Ненила. — Сама управлюсь… И не смей!
— Так ты же на кухне…
— И на кухне, и около батюшки. И разуть-обуть могу, я и в баньку могу свести… А чего ж такое? Он царь, я его раба. Его ублажать Бог повелел.
Ненила вдруг вскинула голову, прислушалась: в верхнем этаже заскрипела дверь на кухонную лестницу, вслед послышался голос Пугачева.
— Ненила, эй! Портянки-то просохли?
— Просохли, твое величество, просохли! — закричала снизу Ненила и засуетилась. — Отвернись скореича, Афанасьич, переодеться мне.
Горбоносый Овчинников, улыбаясь одними глазами, отвернулся к окну.
— Хоть бы занавесочку какую повесить, так не из чего. И переодеться негде, — говорила Ненила, торопливо меняя на себе платье.
Озорник Овчинников попытался было повернуться к ней, но дородная курносая красавица сердито заорала:
— Не пялься, пучеглазый! А нет, клюкой по харе съезжу… не посмотрю, что ты атаманишка! — Она быстро надела новую черную юбку, быстро накинула шелковый шушун с пышными сборами назади, повязала по черным волосам алую ленту, ополоснула руки, освежила водой разгоряченное лицо, сорвала с шеста портянки, подскочила к зеркальцу, заглянула.
А сверху снова нетерпеливый, властный голос:
— Да ты чего там, телиться, что ли, собралась?! С кем это лясы точишь?
— Бегу, бегу! — и Ненила, сотрясая лестницу, потопала наверх.
Вскоре направился туда и атаман Овчинников. У него до царя серьезный был разговор.
Обедали втроем: Пугачев, Падуров и Овчинников. Говорили о делах, о том, что завтра же надо отправить небольшие отряды в помещичьи села Ставропольско-Самарского края: барские запасы пощупать да на зиму в Берды провианту подвезти, а главное — мужиков на дыбки поднять.
— А как с барами мужики управятся, пускай к нам, в наше войско, идут, — сказал Овчинников.
— Высочайших указов надобно поболе изготовить, да чтоб попы в церквах народу оглашали, — проговорил Пугачев. — Ты, Падуров, подмогни Ванюшке Почиталину бумаги-то писать. Эх, Николаева нету!..
И, только начали «по второй», зазвенела за окном лихая казацкая песня, с гиком, с присвистом.
Стоявший при дверях Давилин бросился на улицу и, тотчас вернувшись, доложил:
— Максим Григорьич Шигаев из похода вертанулся, сто десять казаков с верхнеяицкой линии привел.
— Добро, добро! Покличь сюда полковника, — оживился Пугачев и подошел к окошку. На улице уже сгустились сумерки, валил хлопьями мокрый снег, и ничего там нельзя было разглядеть.
Вошел Шигаев, а с ним молодой казак Тимофей Чернов.
Шигаев перекрестился на старинную икону, мазнул концами пальцев по надвое расчесанной бороде и, отдав поклон застолице, сказал:
— Здорово, батюшка, ваше величество! Здорово, атаманы!.. Хлеб да соль!
— Милости просим, будь гостем! — и Пугачев дал знак рукой Ермилке: — Подмогни полковнику!
Чубастый Ермилка и вошедшая с киселем из облепихи рослая Ненила разом насели на покашливавшего Шигаева. Он был в дорожном, поверх кечменя, архалуке из верблюжины. За дальнюю дорогу архалук насквозь промок, сильно осел, не было возможности стащить его с вытянутых рук Шигаева.