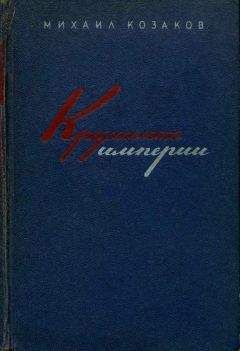Но партии нужны работники всюду, — и Николай Токарев возвращается теперь на родину, в маленький Смирихинск, где, без лишней скромности говоря, может оказаться более нужным и полезным, чем в столице.
В чем эта польза? А в том, что в Смирихинске сейчас довольно значительный этапный солдатский пункт, а также окружное управление по распределению военнопленных. Немало «воинских чинов», которых надо «переплавить» в большевиков.
— Этим и заниматься будете? — рассеянно улыбнулся Федя.
— Так точно, — по-солдатски ответил Токарев. — Революция, Федор Миронович, ведь только началась, а не кончилась.
«Вот оно что…» — подумал Федя.
Он вспомнил в этот момент бритоголового, очкастого Эдельштейна в студенческой столовке и вслед за ним — туберкулезного, длинношеего Гашкевича: двоих разных людей, между которыми поделил свои симпатии. Он посмотрел сбоку на шагавшего с ним рядом земляка-солдата, которого когда-то снабжал литературой, и почувствовал, что то же большое чувство приязни и душевного доверия возбуждает в нем и Николай Токарев.
И тут же поймал себя на мысли о том, что, вероятно, неверно судит сейчас о важных и достаточно серьезных обстоятельствах и делах:
«Правда ведь, люди могут быть привлекательные и хорошие сами по себе, но то, что они хотят сделать, не всегда и во всем может мне нравиться, — думал он, ругая себя в душе «карасем-идеалистом» и «вифлеемским ослом». — Наконец, они могут заблуждаться, быть неправы, — рассуждал Федя. — Почему я не должен с ними спорить в таком случае? И при чем тут хорошие отношения?»
И он вновь подумал о Гашкевиче и о Токареве: с кем из них он больше всего склонен сейчас спорить и во имя какой собственно истины? Но вот почему-то чувствует, что спорить придется с Ташкевичем.
В стране была революция, и он готов был отдать ей свое восторженное сердце, наполненное до краев преданностью, В его личной жизни впереди всего остального была теперь любовь: одна Людмила, казалось, могла бы заменить ему весь мир…
И все же приходила мысль: заменит ли, надолго ли?
Федя не думал сейчас ни о чем глубоко и мучительно, но обо всем легко и радостно. С любопытством, которое, конечно же, будет удовлетворено, С неуспокоенностью, которая, конечно же, даст сладость покоя. Все было достижимо, — так сильна была вера в свое счастье.
— …Революция ведь только началась, а не кончилась, Федор Мироныч.
— Да, да, — легко, отгоняя минутное раздумье, сказал Федя. — Все будет хорошо. Все будет очень хорошо… Ох, как жить теперь хочется, — страсть как!..
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
3(16) апреля 1917 года
Экстренные выпуски цюрихских газет вышли в тот час, когда Ленин, пообедав, собирался, как всегда, уходить в «Staats Bibliothek».
Две голубые плитки шоколада с калеными орехами, по 15 сантимов каждая, были положены в один карман, тетрадь для записей — в другой, сильно оттопырившийся.
Надежда Константиновна убирала посуду со стола, — Ленин жестом попрощался с нею. Вспомнив о раскисшей от дождя весенней погоде, о хлипкой уличной грязи, — подвернул высоко над башмаками темные дешевенькие брюки, надел пальто, взялся за котелок.
Ничто не предвещало сегодня каких-либо перемен. Последние месяцы жилось особенно невесело: рвалась связь с Россией, не было писем, не приезжали оттуда люди.
И Швейцария, и Цюрих, и узенькая Шпигельгассе, и на этой цюрихской улице угрюмый, средневековой постройки дом, — все вместе это было узилище, охраняемое самой невозмутимой и суровой стражей: утомительно-медленно тянувшимся временем.
Но историк, которую Ленин предугадывал для всего человечества, отметила вскоре и этот невзрачный весенний день, и город Цюрих, и мрачный дом с колбасным заведением во дворе (нестерпимо пахло гнилью оттуда), и скромного цюрихского сапожника Каммерера, за 28 франков в месяц сдававшего комнату великому русскому эмигранту и смастерившего зимой своему квартиранту тяжелые деревенские башмаки с большими гвоздями на каблуках.
Каммерер считал своего квартиранта ученым человеком, и грубые башмаки, оставлявшие на земле глубокий след больших гвоздей, вызывали досадливое недоумение сапожного мастера:
— Того и гляди, камрад Ульянов, вас примут за крестьянского старосту?
— Ну и что же, друг мой?
Ленин отвечал добрым хохотком, прищуривал темно-карие глаза.
Когда он уехал и спустя семь месяцев стал первым человеком мира, сапожник Каммерер в кругу семьи и соседей часто рассматривал оставленную ему на память фотографию и ею дополнял свои воспоминания об этом человеке. Подумать только, друзья! А? Судьба подарила ему возможность, ему — ничем не примечательному сапожнику с маленькой Шпигельгассе — жить так долго под одной кровлей с этим русским вождем, видеть его каждый день, пожимать ему запросто руку!
И вспоминалась Каммереру коренастая, ниже среднего роста фигура, сильные руки с широкими ладонями, рыжеватая бородка, раздвинутые в стороны упрямые скулы, острый блеск слегка косящих мудрых глаз, широкая шея и большая голова с выпуклым лбом.
Каммерер точно помнил, что камрад Ульянов и его жена покинули Цюрих 8 апреля, но еще в середине марта вопрос о том уже был решен.
…Итак, Ленин взялся уже за котелок, дабы отправиться в Публичную библиотеку, но в этот момент шумливый, захлебывающийся голос одного из товарищей по эмиграции ворвался из прихожей:
— Владимир Ильич, дорогой! Надежда Константиновна! Да где же вы? Еще ничего не знаете? Вы ничего не знаете?!. В России-то ведь революция!..
Через полчаса на берегу серебристо-серого озера, тронутого рябью мелкого холодного дождя, под навесом, где всегда вывешивались только что отпечатанные газеты, Владимир Ильич, жадно перечитывая скупые строчки первых телеграмм о далекой родине, воскликнул:
— Я должен немедленно поехать в Россию!
Когда он жил в Италии, дети рыбаков прозвали его «господин колокольчик» — за его легкий веселый смех, которым он оглашал взморье во время купанья. Он вообще любил смешное, шутки и шалости детей, возню с котятами и умел смеяться продолжительно, иногда до слез, смеяться всем телом, откидываясь по многу раз назад, заражая весельем всех окружающих.
Но теперь, в эти дни, он стал молчалив. В течение долгих часов ходил он по комнате из угла в угол и о чем-то сосредоточенно думал. Никто не решался прервать вопросом поток его мыслей.
Всех друзей его заботила одна и та же дума: «Сделать так, чтобы Ильич мог немедленно пробраться в Россию… Но как?»
— Ох, какая это пытка для всех нас, русских, сидеть здесь в такое время! — часто повторял Ленин.
И все боялись, что выехать из проклятой Швейцарии не скоро удастся. Так оно и случилось.
В мечтах своих о России Владимир Ильич строил планы, один другого заманчивее. Однако все они оказывались несбыточными, фантастическими, — столь велика была сила желаний, сила мечты.
Вот, — он достает где-то деньги для… швейцарского пилота, и тот летит с ним на аэроплане, летит через высокие горы, через весь фронт войны, летит тысячи верст без посадки, чего еще в ту пору ни одному авиатору не удавалось, летит, может быть, на машине, прочность которой еще никто не испробовал.
«Нет, фантастика, конечно!» — посмеивался он над самим собой.
«А может быть, надеть парик и с документами какого-нибудь партийного товарища явиться за паспортом для проезда через Францию и Англию?»
На несколько дней эта мысль прижилась в уме, но потом и она с обидным сожалением была изгнана: увы, швейцарская полиция слишком хорошо знала всех русских большевиков, она не замедлит сообщить французской охранке инкогнито «путешественника», и тот, конечно же, будет арестован.
— Англия никогда не пропустит, она меня интернирует, — убежден был Владимир Ильич. — К тому же и Милюков постарается.
В письмах к товарищам он писал о том же:
«…Ясно, что приказчик англо-французского империалистского капитала и русский империалист Милюков (и Ко) способны пойти на все, на обман, на предательство, на все, на все, чтобы помешать интернационалистам вернуться в Россию. Малейшая доверчивость в этом отношении и к Милюкову и к Керенскому (пустому болтуну, агенту русской империалистской буржуазии по его объективной роли) была бы прямо губительна для рабочего движения и для нашей партии, граничила бы с изменой интернационализму… Вы можете себе представить, какая это пытка для всех нас сидеть здесь в такое время…»
Ленин метался, — все дороги заказаны, все пути закрыты, сиди тут за семью замками войны.
Но он был неистощим в своих планах. Пришли на ум… контрабандисты, и уж никто из друзей не осмелился спорить с Ильичем. Больше того: стали искать людей этой профессии, дабы они перебросили его через фронт. И нашли одного. Но выяснилось, что контрабандист этот может довезти только до Берлина. А кроме того, оказалось, что он связан какими-то нитями с Парвусом, с социал-шовинистом Парвусом, нажившимся на войне, и этого было достаточно, чтобы Ленин брезгливо категорически отверг помощь контрабандиста.