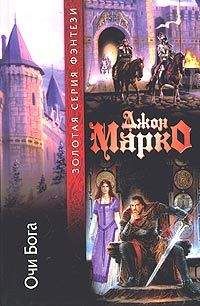По высокому лбу Никиты пошли складки:
— Так, верно царь-государь пишет. Жилы полопаются, а сполню царское повеление. А только разойтись душа просит, а разойтись не дают.
Думный дьяк выпустил клуб табачного дыма:
— Простор здесь необъятный.
Демидов блеснул синеватыми белками:
— Простору для умножения заводов хватит, да вот рабочих людишек недостача.
— Ты прикупай да вольных нанимай. — Виниус покосился на хозяина; глаза Никиты горели жадностью. Пес потянулся, зевнул.
Никита в скрипучих козловых сапогах прошелся по горнице. Подковы гулко стучали по дубовому полу. На стенах колебались тени от могучей фигуры Демидова.
— Это не выход, Андрей Андреевич, — рассудительно сказал Никита: — Я человек слабосильный деньгой, да и хозяйство только-только лажу. Когда мужик новый дом ладит — пуп надрывает. Так! А вот я мыслю такое…
Виниус насторожился, вынул изо рта трубку. Сухое, нервное лицо его выражало внимание. Демидов слова клал, как топором рубил:
— Однако в горном деле без оглядки надо идти. Горами ворочать — надо силу иметь…
— Верно, — согласился дьяк.
— Мыслю я, — Никита стоял посреди горницы, грузный, высокий, поблескивал глазами, — кругом мужицкие волости да сельца монастырские, крестьян тут немало, если заставить их робить — поднимут горы…
Виниус отложил трубку; из нее посыпался пепел.
— Это значит, в крепостных их обратить…
— Зачем? Ни-ни. — Никита покрутил плешивым черепом, темные глаза сузились. Он тихо подошел к думному дьяку, наклонился:
— Поразмысли, Андрей Андреевич, как то можно. Крестьяне в государеву казну несут подати? Так! А теперь, ежели я, скажем, Демидов, сразу внесу за них подати в казну: казне выгода от этого? Выгода! А внесу я всю подать за них, положим, не деньгами, а железом да воинскими припасами по дешевой цене. Выгодно ли и это казне? Опять выгодно! Так!
Серые глаза Виниуса не моргали, Демидов вздохнул, отошел от стола:
— А теперь со мной расчет короток, прост. За то, что подать внес, приписные мужички пусть на моих заводах отробят ее. Та-к! Вот и весь сказ.
Виниус всплеснул руками.
— Никита, голова разумная, дай поцелую. — Думный дьяк обнял Демидова и поцеловал в макушку голого черепа. — Надо подумать, надо подумать…
— А ты подумай, подумай, Андрей Андреевич. Одначе на пустое брюхо худо думать, пора и подзаправить его. Эй! — По хоромам покатился зычный окрик Никиты; волкодав поднял морду.
В дверях появилась разбитная молодка.
— Марина, нам ужин, вино да перину дьяку спроворь. Живо!
— Враз будет, хозяин…
Хозяин и гость после хлопотливого дня ели с аппетитом курники, свинину, лапшу, пироги. Дьяк запивал еду крепким вином, но не хмелел. Никита зелье обходил, но ел хорошо: лицо вспотело. Кости Демидов бросал псу; тот с хрустом крушил их.
На дворе потрескивал мороз; окна заволокло затейливыми узорами, а стряпуха топала по холодному дубовому полу босая; мелькали ее крепкие красные пятки.
На дворе сторож отбил полночь в чугунное било. Хозяйский волкодав улегся в углу, повизгивал в собачьем сне.
Гость поднялся из-за стола, собрался спать. Никита бережно взял дьяка под руку:
— Ты, Андрей Андреевич, подумай над моим делом… Так… Эй, бабы-чернушки…
В горницу вбежали две девки. Демидов мигнул на Виниуса:
— Отвести на покой!
Девки отвели думного дьяка в спальную, проворно разоблачили его и уложили в нагретую перину; огни погасили и скрылись.
В горнице наступила тишина; в узкой оконной прорези в холодном синем небе сверкали крупные звезды.
Думный дьяк Виниус прожил в Невьянском заводе несколько недель, изучил работу домен, ознакомился с рудами; все виденное и узнанное дьяк обстоятельно записывал в тетрадь. Вечером в сумрачной горнице они с хозяином по-деловому коротали время. Крепкий хваткой, рассудительный Никита обворожил гостя; Виниус по-дружески похлопал хозяина по плечу:
— Ох, Никита, умная ты голова, а рука тяжкая!
— Верно, тяжкая, — согласился Демидов, — касаемо головы да рук — царю да тебе, дьяк, с вышки виднее.
В полночь проворные девки волокли дьяка на покой. Дьяк пытался в потемочках поймать лукавых, но девки, как дым, таяли: берегли себя…
За день до отъезда в Москву Никита Демидов провел дьяка в каменную кладовушку. Виниус ахнул: на столе и на скамейках лежали соболиные меха. Мягкая, приятная рухлядь скользила меж пальцев; Виниус не мог оторвать глаз от богатства. Демидов весело подмигнул дьяку:
— Эту рухлядишку, Андрей Андреевич, для тебя припас, за нашу дружбу. Ноне в коробья покладем да в дорогу…
— Ой, Никита, как же ты! — В дьяковых глазах светился жадный огонек.
— А так… Попомни, дьяк, да подумай в дороге. — Никита рукой гладил мех, из-под ладони сыпались веселые голубоватые искорки. У дьяка от этих искорок разгорелось сердце.
— Вспомню и царю расскажу! — пообещал он.
Утром дьяка усадили в возок, укрыли его медвежьей полстью. На госте добрая дареная шуба. Впрягли в возок серых резвых коней. За возком шел обоз с мехами, подарками и образцами уральских руд…
Под санками поскрипывал морозный снег, на дорогах кружила метель. В шубе дьяку было тепло, не страшно, охватывала дрема; он мысленно бережно гладил дареную соболиную рухлядь…
Демидовские вершники провожали думного дьяка Виниуса до самой Москвы.
Акинфию Демидову так и не пришлось увидеться с думным дьяком Виниусом. Кружил в ту пору Акинфий Никитич по горам да по увалам: ладил путь к Чусовой-реке. Шла по ней древняя дорога в Сибирь. Тут в давние времена прошел Ермак Тимофеевич со своей храброй казачьей ватагой.
Метил Акинфий Демидов к весне выбраться на чусовской водный путь: возле деревни Утки на Чусовой ладили пристань, рубили амбары из векового леса, каменские плотники строили струги. Над замерзшей рекой стоял стук топоров, галдеж; ругались-покрикивали соликамцы, чердынцы, кунгурцы, вятичи. От Чусовой через Камень по снегу рубил Акинфий просеку, по ней строил новую дорогу для уральского чугуна и железа.
Боры стояли оснеженные, зима потрескивала лютая: от горячей работы над лесорубами пар стоял. Жили работные в курных ямах, спали на еловых лапах, подостлав сермяги.
За работой приглядывал сам Акинфий. Разъезжал он по просеке на бойком башкирском коньке, одетый в добротный полушубок, за пазухой — пистолет, в руке — плеть. Заглядывал Демидов в кержацкие скиты, кормили кержаки его блинами, толокном, медом. Держался заводчик с кержаками чинно, степенно; это любо было раскольникам.
Лесорубы на просеке не знали праздничных дней, оборвались, обовшивели. Изредка потехи были: в борах тревожили медвежьи берлоги. Рабочие с топорами, с рогатинами шли на зверя. Раз неподалеку от Тагилки-реки потревожили матерого медведя. Зверь рявкал на весь лес, по-необычному был громаден, могуч; по дороге он хватил лапой ель — дерево с хрустом переломилось. Лесорубы не струсили, с топорами побежали на медведя. Акинфий остался на просеке, любуясь схваткой.
Старшой лесорубной ватаги выскочил вперед и проворно сунул, под медвежью лопатку рогатину. Зверюга взревел, по снегу заалели ручьи крови.
Смертельно раненный зверь переломил рогатину, схватил мужика за плечи и подмял под себя.
Лесорубы, размахивая топорами, кинулись на зверя. Акинфий поморщился:
— Пакость! Мерзкое убийство! Чтобы единоборство…
Он вспомнил юность в Туле, поход к дьяку Утенкову и недовольно нахмурился.
— Трусы! — брезгливо бросил он лесорубам.
Мужики, не расслышав его окрика, похвастались:
— Уложили-таки лесного хозяина!
Демидов повел бровью и сказал сердито:
— На Каменном Поясе один хозяин — Демидовы. Других не потерпим!
Мужики покорно сняли шапки.
Жадная сучонка, трусливо поджав хвост, лизала по снегу липкую кровь…
Шел рождественский пост, но лесные варнаки содрали со зверя шкуру и варили медвежатину. Мясо было жирное, отдавало чащобой. После обильной еды народ изводился животами, а Демидов сердился:
— Дурома, рады дорваться; медвежатину надо с толком жрать! Э-гей, на работу!
Спал Акинфий в курной яме вместе с лесорубами — на еловых лапах. Ямы были покрыты толстым накатником, в накатнике — дыра, в нее и уходил дым. В землянке застаивался синий угар, и Демидов подолгу не затыкал дыру в накатнике. В дымоход виднелись оснеженные ели, темное небо и яркие звезды. Несмотря на утомленность и долгое пребывание на морозе, Акинфий не мог уснуть; ворочался, как зверь в берлоге, вздыхал. За хлопотами и работой к Акинфию подкралась тоска по женской ласке. Днем Акинфий помогал валить лесорубам вековые сосны, но въедливая тоска не проходила. В двадцать четыре года кровь бежала жарко, не могли ее остудить злые морозы, горные ветры и маятная работа. Решил тогда Акинфий на несколько дней выбраться из бора и податься к Невьянску…