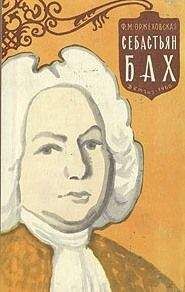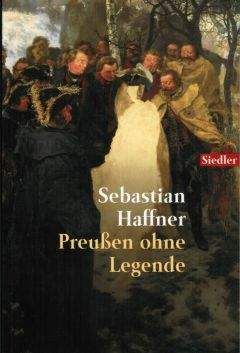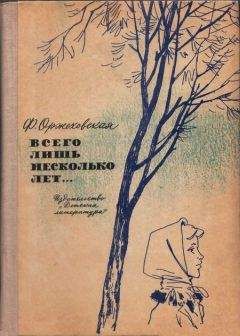– И все части такие же мелодичные? – спросил один из студентов.
– Приблизительно, – ответил Бах.
Не без заминки начал он увертюру. И, наконец рискнул сыграть всю сюиту.
Конечно, увертюра, полонез с вариациями да еще медленная сарабанда могли показаться тяжеловеснее, заунывнее, чем «Шалость». Но они были сродни ей, все в си минорной тональности и действительно очень мелодичны. Отголоски «Шалости» еще звучали в ушах у студентов и придавали остальным частям неожиданную мягкость. Сюита вообще становилась как бы легче и проще к концу. Наконец «Шалость» была снова сыграна и понравилась еще больше, чем в первый раз.
Через три недели студенческий оркестр под управлением Баха уже играл си минорную сюиту. Они собрались в самой большой кофейне Лейпцига, и в этом не было ничего зазорного, так как там устраивались серьезные концерты. Народу собралось много, и сюита имела успех. Последнюю часть пришлось даже повторить.
Гельмут Цорн играл трудную партию флейты. Он был горд своей ролью и уже проникся верой в возрождение студенческого оркестра. А где есть хотя бы один энтузиаст, непременно найдутся и другие.
Весна наступила рано, дружно, и в городе впервые после многих лет не было обнаружено ни одного случая злокачественной лихорадки, уносившей много жителей Лейпцига и окрестностей. Это благоприятное обстоятельство оказалось для певчих невыгодным, так как лишало их дополнительного дохода, получаемого при отпевании покойников. По этому поводу певчий Ганс Брукмейстер сочинил песенку «Гимн горячке». Конец ее был такой:
Она и певчих косит,
Таков и наш удел,
Зато доход приносит
Тому, кто уцелел!
Иронический характер песенки свидетельствовал о том, что бывший «Коровий хвост» значительно развился умственно и разбирался в обстоятельствах. Там были язвительные строки про монахов, которые из всего умеют извлечь выгоду: они выпустили дорогостоящие благодарственные молитвы для здоровых. Раз уж вы остались живы, бездельники, то благодарите бога усерднее и платите щедрее, а то как бы небо, рассердившись, не наслало на вас новые бедствия!
То был, безусловно, удачный год.
Бах много работал. К рождеству для вечерни он собирался закончить «Магнификат» – ораторию для пятиголосного хора и оркестра. Две флейты, два гобоя, струнный квартет, чембало [18], орган. Да и солисты… Кто же это исполнит? Бах сказал Анне-Магдалине, что намерен разучить все это со студентами-любителями.
– Ты возьмешь на себя партию сопрано, – она как раз для тебя.
– Я знаю, – ответила Магдалина, – но оркестр? Певцы? Ведь это гораздо труднее, чем сюита.
– Я не говорю, что легче, – сказал Бах. Студенты отнеслись к этому замыслу недоверчиво.
«Магнификат»? Это что за чудище такое? Переписанная партитура имела устрашающий вид: черным-черно, особенно вступление оркестра. Оставив пока в стороне оркестр и хор, Бах старался приохотить к своей оратории [19] певцов-солистов. Нельзя сказать, чтобы все они были на высоте: у баса неважный слух, тенор постоянно откашливается из-за хронической хрипоты. Зато две девушки, сестры студентов-любителей, были хороши. Их голоса звучали приятно. Анна-Магдалина проходила с ними сольные партии, и певицы разучивали их с чисто женским терпением.
Хор мальчиков к тому времени уже выровнялся. Только оркестру приходилось трудно. Но нельзя же требовать совершенства! Чего нет сегодня, того можно добиться завтра.
Пойдет! Любопытно проследить, как они постепенно набирают силы. Сначала, смеясь над собой, фальшивят и не очень огорчаются по этому поводу: не верят, что у них может получиться. Они еще целиком здесь, по эту сторону: совсем не артисты и не хотят быть артистами. Без угрызений совести и уколов самолюбия они в любую минуту откажутся продолжать. Ведь это не их затея, а выдумка Баха. Вряд ли ему удастся вовлечь их в это сомнительное предприятие!
Но вот неожиданно удался довольно длинный кусок. Хорошо! Попробуем-ка сначала. Проверим. Они играют все так же недоверчиво, но, безусловно, лучше, чем в первый раз. Смотри-ка!
И улыбка сходит с их лиц, потому что они уже не свободны: их зацепило. Получилось, смотри-ка! Может быть, еще получится? Стоит ли пробовать? А почему бы и нет? Вышло, и довольно недурно.
– Вот видите! Значит, возможно! – говорит Бах и, не давая им опомниться, требует повторить начало оратории, первые две особенно трудные страницы.
И оркестр делает первые твердые шаги.
Но рано еще торжествовать. Бах знает, что произойдет в ближайшие минуты. Музыканты споткнутся, и очень больно. Они остановятся и ни шагу вперед. Но теперь они уже не будут смеяться, они станут сердиться: и на себя за свое легковерие и, главным образом, на него за то, что вовлек их в это дело. Незачем терять время, лучше разойтись.
Но теперь уж не так легко взять и все бросить. В оркестре разлад: одни поднимаются с места и захлопывают ноты, другие удерживают их. Кто хоть раз убедился в своих возможностях, тот будет продолжать до тех пор, пока не возникнет новое препятствие. И оно возникает. Бах разучивает с музыкантами довольно трудный кусок; каждый в отдельности справляется, но, когда начинают играть все вместе, они как будто не слышат друг друга. Как они теперь чувствительны к неудачам! Красные, сердитые, они порываются все бросить и все-таки остаются на своих местах.
И вдруг это трудное место получается еще лучше, чем первая страница. Очевидно, тут действует какой-то скрытый закон. Но, во всяком случае, препятствие удалось преодолеть. Сознание успеха укрепило волю.
Сегодня, завтра, послезавтра… Вперед, назад, еще вперед! Оратория, по мнению музыкантов, вполне заслуживает свое название: «Магнификат» – «Великолепная». В мудром чередовании контрастов возникают ее двенадцать частей, двенадцать монументальных картин. Но еще далеко до конца, и он не наступает.
«Магнификат» не был разучен к рождеству: церковное начальство не отпускало Баха на репетиции, обременяя лишней, утомительной работой. Ведь он служил, а занятия с оркестром были только его радостным досугом, дополнением к его служебной жизни. Но оркестр не был готов к сроку, а после срока исполнение рождественской оратории не имело смысла. Так объяснил Баху ректор школы святого Фомы, снизошедший до личного разговора с регентом.
– Ведь мы не концерты с вами даем, мы служители священного культа. Когда-нибудь настанет черед и для этой музыки!
«Когда-нибудь!»– думал Бах, откладывая ораторию. Он часто повторял эти слова. Когда-нибудь мир узнает его сочинения. Через год, через десять, через сто лет!
После выпускного акта в университете Филипп-Эммануил уехал в Берлин, на музыкальные празднества. Там произошло событие, определившее его дальнейшую карьеру: он попал во дворец прусского короля Фридриха.
Камеральный советник [20] Гроссе, хорошо знавший Иоганна-Себастьяна Баха еще по Веймару, представил королю его сына. Доступ во дворец был труден, но, помимо протекции советника Гроссе, Эммануилу помогло состязание клавесинистов, объявленное по приказу самого короля.
Король Фридрих, считавший себя виртуозом на флейте, нуждался в хорошем аккомпаниаторе. Многие известные музыканты являлись к нему, но он отвергал их. Только трое удостоились чести остаться при дворе с тем, чтобы король выбрал среди них достойнейшего. Их испытания продолжались.
Эммануил Бах был одним из этих «счастливцев». Вскоре ему выпала честь: прослушав Эммануила, король пожелал поиграть на флейте и предложил молодому Баху аккомпанировать ему. Игра Эммануила понравилась, он остался у Фридриха придворным клавесинистом.
Теперь он жил в столице, во дворце, и был устроен так хорошо, что многие поздравляли Себастьяна Баха, втайне завидуя ему. Но сам он не был уверен в том, что Эммануил нашел правильную дорогу, и читал его письма, хмурясь и качая головой.
Зато эти письма восхищали Анну-Магдалину.
– Какой слог! Какой юмор! Какое знание людей!
– Все это так, – отвечал Бах, – но, к сожалению, он холоден и рассудочен.
Анне-Магдалине казалось, что Бах несправедлив к сыну, и она даже упрекала его в пристрастии к старшему, Фридеману, у которого было гораздо больше недостатков. В Эммануиле она почти не находила их. Однако два обстоятельства заставили ее огорчиться.
Гельмут Цорн, флейтист, с которым Эммануил дрался на дуэли в первые дни своей студенческой жизни, а потом тесно сдружился, писал в Берлин длинные чувствительные письма. Эммануил отвечал не часто и коротко – ведь он был очень занят при дворе. Гельмут радостно вскрывал эти письма, но всякий раз его лицо вытягивалось при чтении их. Питая доверие к матери своего друга, он показал ей одно из этих писем. Прочтя его, Анна-Магдалина опечалилась. Если бы не начало: «Любезный Гельмут!» – можно было бы подумать, что оно ни к кому не обращено. Эммануил писал только о себе. Ни одного вопроса о самом Гельмуте, о его жизни.