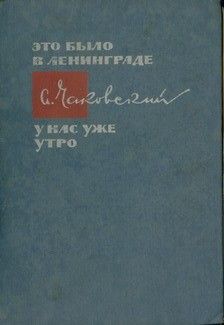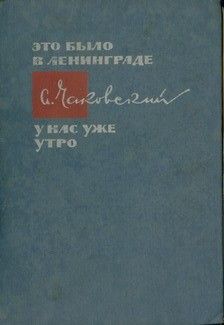— Конечно, — поспешно ответила я.
Катя и Валя принесли обед и начали кормить детей. Ребята ели. И опять я с тревогой присматривалась, кто как ест. Я радовалась, когда видела чей-нибудь быстро жующий, чавкающий рот. Те, кто ел апатично, медленно, точно нехотя пережёвывая пищу, вызывали у меня тревогу. Но с каждым днём таких детей становилось всё меньше.
«Завтра сможем увеличить порцию», — подумала я, и мне стало очень радостно.
Но посмотрела на Кольку, и настроение моё упало. Поев немного, он отодвинул тарелку с манной кашей и теперь снова лежал на спине, устремив в потолок свой неподвижный взгляд.
Я подошла к Коле. Спросила:
— Ну, поел? Сыт?
Молчание. Глаза его закрываются. Он засыпает или делает вид, что уснул. Через некоторое время в комнате наступает полная тишина. Дети заснули. Катя и Валя ушли на кухню мыть посуду.
Я подошла к окну, чуть отодвинула край одеяла. Тёмное, пасмурное небо. Лёгкий буран. В проделанную мною щёлку влетают снежинки. Холодно…
«Если б солнце! — подумала я. — Если б тепло и долгий солнечный день! Как порозовели бы лица моих ребят!»
Тишина. Я подумала: «А сколько времени в Ленинграде не было бомбёжек? Не обстрелов, нет, — они бывают по нескольку раз в день, — а бомбёжек с воздуха?»
Постаралась припомнить последнюю бомбёжку. Это было, кажется, в декабре. Потом самолёты не летали. И с Ладоги мы не наблюдали, чтобы бомбили Ленинград. Немцы не хотят рисковать самолётами. Стрелять из орудий проще и безопасней. Я подумала: «А знают ли они, что творится в Ленинграде?»
Подумала и сама усмехнулась своей наивности. Конечно, знают! Знают и торжествуют: Ленинград замерзает, Ленинград голодает…
Я отошла от окна. Ребята спали. У некоторых лица во сне заострились, сделались меньше. Я подошла поближе и прислушалась к их дыханию.
И вдруг мне пришла в голову страшная мысль… Может быть, сейчас где-то на Вороньей горе уже наводят орудие на какой-то квадрат, и этот квадрат — мы, эти вот дети, и через секунду грянет выстрел, и здесь не будет ничего, кроме клубящейся каменной пыли, крови и изуродованных детских тел… Мне стало жутко от сознания неотвратимости несчастья. Я подумала: «Как ужасно, как нелепо, что нельзя остановить этих идущих сейчас к орудию людей и отшвырнуть в сторону само орудие». Я почувствовала, как велико моё ожесточение, моя ненависть к этим страшным, чёрным людям, виновникам всех бед. Но потом мне стало казаться невозможным, чтобы в детей попал снаряд.
«Что будет с этими детьми дальше, как сложится их жизнь? — размышляла я. — Самому старшему из них восемь лет… У них нет родителей, нет дома. Ведь только материнская ласка сможет залечить их раны, изгладить из маленьких сердец страшные воспоминания. Но сумеют ли голодные, ежеминутно находящиеся под орудийными выстрелами взрослые люди помочь этим детям вновь обрести своё детство? У каждого из нас бывают минуты, когда вспоминаешь невозвратимую пору детства, точно милую, полузабытую сказку… О чём же может когда-нибудь вспомнить такой Коля?
Я подошла к Марусе. Девочка спала. Из-под одеяла высунулась её тоненькая ножка в чулке. Я осторожно укрыла её одеялом. Мне показалось, что Маруся улыбнулась во сне. Что видела она сейчас? Свою мать, солнце или любимую игрушку? Или показалось Марусе, что она снова смотрит на мир через весёлое жёлтое стёклышко — и всё, что она уже давно привыкла видеть серым и безрадостным, озарилось новым, волшебным светом?
Я нагнулась и поцеловала девочку в лоб.
— Спи, моя Люба, — шёпотом сказала я.
Она не пошевельнулась. Она тихо спала, сжимая в руке кусочек жёлтого стекла.
…Как-то мы сидели вечером все вместе: Анна Васильевна, Сиверский, Соня, Катя, Валя и я. Было воскресенье, около шести вечера, мы собирались кормить ребят ужином. Вдруг слышу, подъехала машина.
— Ещё ребят привезли! — крикнула я и побежала на улицу.
Но на лестнице столкнулась с Ириной. Вот была неожиданная встреча! Я Ирину уже почти месяц не видела. Ирка, возбуждённая, радостная, поцеловала меня и кричит:
— Собирайся, детский сад, поедем танцевать!
Я ничего не поняла и вообще была очень удивлена, увидев Ирину в таком возбуждённом состоянии, а её слова «поедем танцевать» прозвучали так же нелепо, как, скажем, «пойдём купаться»… Но Ирина тут же на лестнице рассказала мне, что танцы должны быть в Доме культуры в первый раз за всю блокаду и в тот район всё равно с завода едет полуторка.
Всё это Ирина рассказала мне быстро-быстро и в эти секунды напомнила мне прежнюю Ирину — «море по колено».
Я всё-таки затащила её к нам в комнату. Мне показалось, что, увидев столько детей, Ирина смутилась и не знала, что ей делать. Она познакомилась с моими девушками и потом всё время старалась не смотреть на ребят, но я заметила, что всё-таки бросала на них взгляды украдкой. Потом спросила, указывая на мальчика, лежащего в постели у печки:
— Сколько… этому?
— Четыре, — ответила я.
— А выглядит, как годовалый. — Голос Ирины стал снова хриплым, как обычно.
Она отвернулась от ребёнка, посмотрела на окна, прикрытые одеялами, и поёжилась.
— Дует у вас тут. — И добавила: — Столько времени фанеры достать не можешь!.. Организатор!.. — Затем повернулась к моим девушкам и сказала громко: — Ну, поехали танцевать?
Конечно, её никто не понял, и Ирине пришлось повторить всё то, что она сказала мне на лестнице.
Я заметила, что глаза Кати и Вали заблестели. Они не знали, верить ли Ирине или нет, но само слово «танцы», слово из далёкого, забытого прошлого, привело их в нервное, возбуждённое состояние.
— Ну, быстро! Быстро! — торопила Ирина. — А то мои девушки в машине замёрзнут.
Наконец я сообразила, что происходит. До этого у меня в голове была путаница: приезд Ирины, танцы, спешка…
Я сказала:
— Мы не можем все ехать, Ирушка. Кто же останется с детьми?
Ирина растерянно посмотрела на меня.
Я почувствовала лёгкое раздражение. Зачем она приехала сюда со своими танцами? Мы уже успели забыть обо всём, что не относится к нашей работе. А тут… Я украдкой взглянула на моих девочек и заметила, как вздрагивают губы у Кати и как Валя теребит край своего ватника. А ведь они сейчас расплачутся. Вот странно! Эти девушки не плакали перед лицом смерти, стужа их не брала, голод не выжимал слёз, а тут…
— Вот что, девчата, — сказала вдруг Анна Васильевна, до этого молча сидевшая на чурбаке у печки, — вы поезжайте, а мы со стариком, — так она звала Сиверского, — посидим. Ребята накормлены, новых сегодня уже не привезут. Поезжайте.
— Ну, хорошо, — согласилась я, — поезжайте.
— А вы? — спросила Катя.
— Я не поеду, — ответила я. — Не могут же все разъехаться.
— Все не все, — сказала Анна Васильевна строго, — а только ты, начальница, здесь вовсе не нужна.
В этот момент Ирина, до того стоявшая наклонив голову, как будто разглядывая что-то на полу, выпрямилась и произнесла с какой-то отчаянной решимостью, обращаясь ко мне:
— Эх… едем!
И я тоже повторила:
— Едем!
— Мы побежим переодеваться! — крикнула Валя.
— Вот это уже не выйдет, — остановила её Ирина, — там на улице у меня девочки замёрзнут, да и машину нельзя задерживать. Ноги в руки — и марш!
Я заметила, как Валя растерянно оглядела свой старенький, подпоясанный узеньким ремешком ватник.
Мы пошли к выходу. Полуторка стояла у подъезда. Я привычно вскочила на колесо, перемахнула через борт и очутилась среди знакомых заводских девушек. Валя и Катя тоже забрались в кузов.
— Ну, все? — спросила Ирина, села в кабину и громко стукнула дверцей.
Мы поехали.
Удивительно хороший был вечер! Дома высились из сугробов, как из огромных пуховых перин. Ветра не было, и от этого всё вокруг казалось неподвижным и величественным. Высоко над нашими головами, словно огромная океанская рыба, плыл аэростат воздушного заграждения, и, хотя я знала, что аэростат никуда не плывёт, а это мы движемся, мне всё-таки казалось, что он медленно-медленно проносится над нами.
Глупое желание пришло мне в голову. Мне захотелось сидеть в лодке, привязанной к этому аэростату, и вот так же плыть по небесному океану, плыть медленно, спокойно, без толчков… И настала бы ночь, потом день, потом снова ночь, а я бы всё плыла и плыла!.. Я посмотрела вверх, но аэростата уже не было видно, мы свернули в переулок. Тогда мне пришло в голову, что езда в полуторках и трёхтонках стала прямо-таки эпохой в моей жизни. Из кузова грузовой машины мир всегда кажется каким-то особенным, совсем другим, чем когда идёшь пешком или едешь в так называемых нормальных условиях.
Потом я стала думать о неповторимости жизни. Я уже думала об этом на Ладоге, когда вспоминала, что с первыми лучами солнца весь этот с такими усилиями созданный мир исчезнет, растает. И вот Ленинград, такой, каким я вижу его сейчас, тоже никогда не повторится.