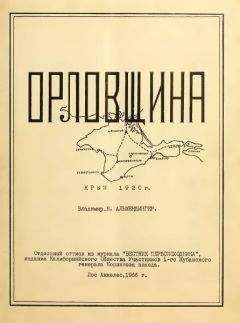Лене противно до омерзения стало, злость откуда-то из глубины поднялась такая, что только мужчина к девушке шагнул, лапу свою грязную протянул, желая за грудки схватить, она не думая, ему коленом в пах въехала, сил не жалея, и ударила в рожу пьяную.
Охнул, откинуло к входной двери.
А Лене мало — как с ума сошла.
Схватила за грудки в стену втиснула, шею зажала и зашипела в лицо:
— Ты не фронтовик, ты мразь пьяная. Сволочь, а не гвардии сержант. Ты себя и ребят — товарищей своих позоришь! Они на фронте погибли, что ты мразь, жил! По чести жил. Их не позоря! А ты предал их, растер, как фашист!!
— Я?! Я?!! Ах ты?!! — глаза вытаращил и пинок душевный получил.
— Меня слушай, скот!!! Если ты еще раз на пацана вякнешь, я тебя лично застрелю, мразь! Чтобы не позорил братьев погибших! Чтобы не пачкал пейзаж рожей своей отвратной! Фронтовик, хренов!
И отошла шатаясь от сникшего мужичка, осела у стены без сил, ворот рванула.
Почему вот такие живут, почему им дано было выжить? Зачем? Чтобы видом своим, делами имя славных сынов Родины, честь победителей пачкать?
А ведь кто-то из погибших мог более достойную жизнь прожить, дать что-то людям, не то что этот, только напиваться до беспамятства и детей гонять.
— Мразь, — прошипела.
Подняться бы и уйти, чтобы не упасть перед этой падалью, слабость не показать.
— За ублюдка вступилась…
— Это ты ублюдок! Рот свой закрой, пока с лестницы не спустила!
— Ах ты ж сука тыловая, подстилка…
Лене голову снесло напрочь — въехала сапогом в морду пьянице. Вытащила на площадку и с лестницы спустила.
В квартиру зашла и съехала по стене — в грудине словно взорвалось что, и в голове шум. Душно, даже перед глазами марево.
— Теть Лен? Теть Лен?! — затряс ее мальчик, а сам белый с перепугу.
Девушка улыбку выдавила. По голове его погладила:
— Нормально все.
— Пойдем, пойдем теть Лен! — и вправду заревел, тянуть ее начал.
Как в комнате Домны оказалась — не помнила. Лежала на полу и все с дыханием справиться пыталась, с болью в груди. Сережа девушке под голову подушку положил, сидел рядом на коленях, руку гладил:
— Ты не умирай, теть Лен, не умирай! — плакал.
Она все улыбку вымучивала: успокойся. Отвлечь мальчонку надо — понимала. И захрипела через силу:
— Чего сцепились? Кто это?
— Дядь Гриша. Из четвертой, — носом шмыгнул. — Заходит иногда. Пьяный он. На мамку и папку гадость сказал, а я не стерпел, ответил. Он драться.
— Правильно, что ответил, — еще бы боль унять, сознание не потерять. Тяжело дышать… тяжело…
— Говорит что папка ничего не герой, крыса тыловая. А я нагуленный.
— Не слушай. Урод твой дядя Гриша. Не фронтовик, нет таких среди фронтовиков…Отец герой у тебя, и мама любит его. Тебя любит.
— А вы папку моего знали? — плакать престал, глазенки огромными стали. И Лена не смогла правду сказать, надежду мальчика забрать. Руку ему сжала, насколько сил хватило, улыбку вымучила:
— Знала. Хочешь расскажу?… Бой был… жестокий… Били по нашей пехоте немецкие орды…А твой отец… танковый дивизион на прорыв пошел…Смял доты, в которых…фрицы засели… Лупили так, что косило наших солдат… Если б не твой папа… полегли бы все…
И поняла: все, не может. Свернуло ее, кашель душить начал, а во рту солоно.
Не так что-то, — попыталась встать, уйти к себе, только чтобы мальчика не испугать, а встать не может. Барахтается как черепаха на панцире и ничего уже не соображает. Гудит в голове, как в трансформаторной будке, а воздух тягучим кажется, густым, как дым.
В комнату Вера с Домной влетели. Первая к Лене, вторая сына ощупывать:
— Жив? Нормально?!
— Мам, теть Лена!
— Лен, ты чего?! — трясла ее Вера, глаза от страха с компас. Санина силилась ответить, но что и кому уже не понимала. Рот полон соленым, вязким был. Зажала его и не сдержалась, закашлялась — потекло по ладони красное, густое. Уставилась на бурую жидкость и поняла:
— Осколок… пошел…
Не вовремя — Сережку напугала… глупо все как… — мелькнуло и погасло.
Домна с Верой в вой, крик, заметались. Сережку в другую комнату, мать его на улицу, телефон искать, карету скорой помощи вызывать.
А Лена не видела, не слышала, не понимала — плавала, чувствуя, что легче и легче тело становится. И все мужчину того видела. Улыбался он ей, голову в ее сторону поворачивая, и улыбка у него настолько чудная была, что ничего страшно не было, и ничего уже не надо…
"Черчель бряцает оружием", — прочел в «Правде» Николай и откинул газету. Скверно. В воздухе опять войной запахло.
Дроздов в кабинет с газетой влетел, увидел на столе друга тот же номер и осел на диван:
— Как бы войны опять не было.
Санин затылок потер, лицо закаменело — что тут ответишь Сане?
— Как думаешь?
— Не знаю, Саша. В принципе ожидать следовало. Гнилые у нас союзники — еще в войну ясно было. Сколько они со вторым фронтом тянули?
— Бред какой-то! — дернулся мужчина.
— Бред, ни бред, а сказано ясно, — газету развернул и прочел слова Сталина. — "Наглость Черчелля, его бредовая речь направлены против нас. Не покладая рук мы должны работать на укрепление обороноспособности нашей Родины". Разжевывать надо?
Дроздов головой качнул: без пояснений ясно — все в ружье и ждем нападения.
Тяжело на душе было — неужели война опять?
Всем в те мартовские дни было тревожно. В воздухе ощущалось напряжение, лица что прохожих, что работников были сумрачными, взгляды настороженными. Все ждали беды.
Валя опять принялась сухари копить, а Николай молчал на этот раз. Не был уверен, что не уйдет опять на фронт. Ему воевать, не привыкать, мужик, выдержит, а бабам, девчонкам как? Только ведь что-то проясняться, устанавливаться начала, и вот вам, как удар под дых.
Везде одно обсуждалось — фултоновская речь Черчилля. Ее последствия, ее цели. Возможные действия Советского Союза и товарища Сталина.
Ждали войну и боялись ее.
Статьи в газетах все серьезнее и тревожнее были, накаляя обстановку до предела.
Многие плакали от переживаний. Та же Лидия Степановна — валерианой отпаивать пришлось. Телефонистки и паспортистки шататься вокруг кабинета полковника перестали, в столовой смешков и веселого гомона слышно не было. Дроздов про женский контингент мгновенно забыл. Валюха в слезах, за братом хвостиком ходила, и все как молитву твердила: лишь бы не было войны, лишь бы не было войны.
Затаилась страна, замерла в напряженном ожидании.
Шестнадцатого марта в газетах опубликовали сообщение о переименовании Совнаркома СССР в совет Министров СССР. Это тоже приняли как знак близкой войны с империалистами. Митинги пошли, собрания, на которых вновь, как в во время войны с фашистами, все были единодушны, опять вместе и заодно.
Но к концу марта страсти улеглись. Сталин заявил, что войне речи нет, и все облегченно вздохнули. В апреле уже те дни, как страшный сон вспоминали. Москва готовилась к газификации. А раз так, какая война может быть?
И опять спокойно стало, в мирное русло вошло.
Апрель, май — обыденность, размерянность. Только радоваться этому Николай не мог, как мхом порастал в рутине, цель и смысл существования теряя.
Работа — да.
Сестра — да.
Но на работе все более менее нормально, опять же обыденно.
Сестра вроде бы отошла немного от страхов, перестала сухари сушить, «заначки» продуктовые по квартире устраивать. Расцвела даже, на свидания бегать начала, все реже дома бывая. Платья уже не прятала на "черный день", чтобы продать или на продукты обменять — носила. Николай ей еще два купил — и вроде хватит. Все есть, что еще нужно?
А что нужно, как раз не было.
Он все чаще на фото Лены смотрел и все думал, станет ли когда-нибудь боль от потери Леночки глуше, пройдет ли?
Днем ничего, забывалось все в делах, а по ночам накатывало само, тащило в те годы, как домой.
Весна сиренью цвела за окнами, первая весна без взрывов и не в окопах. И Сашка крутил во всю, жил как с цепи сорвался — то девочки, то к Николаю завалится, посидеть. Работал, себя не жалея. Горел, видно мечтая сгореть.
А Николай как-то замкнулся, потерялся и замер на одной точке, вернее в одном кольце — работа, дом, друзья. С девушками знакомился, но мимолетно, по необходимости — то Дрозд опять кого-нибудь приведет, то Валя с очередной подругой, между прочим, сводить примется. А его не тянуло. Не отнекивался — ждал — тронется наледь в душе, потянет. Нет, поулыбаются друг другу, посмеются, разойдутся.
Он жил, но жил ли? Жил ли Сашка? Жили ли другие, прошедшие огонь четырех ураганных лет?
И чем больше смотрел, анализировал, думал, тем сильнее укреплялся в мнении — они жили в тех четырех годах, действительно, полнокровно, а сейчас словно заснули в анабиозе и все ждут того, что уже не повторится.