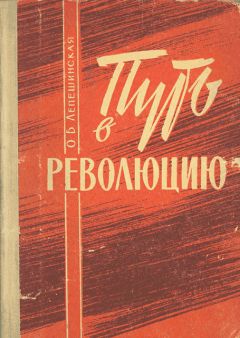«Двумя-тремя „тихими“ ходами упорный противник „антанты“, под шумок ее преждевременного ликования, создал совершенно неожиданную для союзников ситуацию, и „боевое счастье“ им изменило.
С этого момента лица их все более вытягиваются, а у Ильича глаза загораются лукавым огоньком. Союзники начинают переругиваться между собой, попрекая друг друга в ротозействе; а их победитель весело-превесело улыбается и вытирает платком пот со лба» (П. Н. Лепешинский. «На повороте»).
Владимир Ильич с его непосредственностью и умением всей душой отдаваться развлечениям, доступным нам в условиях ссылки, веселился вместе со всеми.
Вспоминается одна из вечеринок. После чая мы устроили танцы. Зинаида Павловна Невзорова, жена Кржижановского, отлично танцевала падеспань, я лихо отплясывала русскую, к нам присоединились другие… А потом мы устроили пение.
Фридрих Вильгельмович Ленгник обладал хорошим сильным голосом. Он и запел первым любимую нами песню, сочиненную Глебом Максимилиановичем:
Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами,
Грозите свирепо тюрьмой, кандалами…
После этого Василий Васильевич Старков наладил пение хором. Он у нас обычно и был «главным дирижером», даже создал нечто вроде хора из ссыльных. Запели сначала «Варшавянку», переведенную с польского Кржижановским. За «Варшавянкой» последовала «Вы жертвою пали в борьбе роковой…»
Но была у Старкова одна слабость: исполнять хором печальную украинскую песню «Така ж ии доля». И вот зазвучало:
Така ж ии доля,
О боже ж мий милий…
Владимир Ильич, как мы знали, не был равнодушен к музыке. А так как в ссылке иной музыки, кроме пения, не было, то он порой и отводил в нем душу. Однако тягучая «Така ж ии доля» была вовсе не в его духе. Очевидно, наше меланхолическое завывание порядком прискучило всем; и поэтому, когда Ильич воскликнул с азартом: «К черту „Таку ж ии долю“! Давайте-ка зажарим „Смело, товарищи, в ногу!“», — все были довольны.
Хор мгновенно переключился и грянул:
Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе…
Владимир Ильич взмахивал в такт руками и с увлечением пел:
И водрузим над землею
Красное знамя труда…
В эти минуты он отдавал себя пению целиком — энергично притопывал в такт ногой, и в глазах его сверкало не только веселье, но и глубокий революционный энтузиазм.
Вдосталь насладившись пением, мы как-то незаметно перешли к разговорам о своих — то есть партийных делах.
Кончилась эта памятная встреча. Все разошлись. Ульяновы уехали к себе в Шушенское, но связь Владимира Ильича с Пантелеймоном Николаевичем не прерывалась. Они переписывались по поводу шахмат, но из тех же писем мы узнавали и о жизни семьи Ульяновых. Каждый раз с нетерпением ожидали мы весточки из Шушенского. А вспоминая Ленина, говорили о том, как замечательно сочетается в нем умение непринужденно веселиться со способностью вести серьезнейший разговор о политических проблемах, говорили о его личном обаянии, которое привязывало к нему людей на долгие годы.
Вот и 1900 год. Начало нового столетия. Помню, в тогдашних юмористических и публицистических журналах не было недостатка во всякого рода предсказаниях, носивших совершенно курьезный характер. Мы, революционеры, не задавались прогнозами на грядущие десятилетия, но твердо верили в победу революции и думали над тем, что необходимо делать в настоящую минуту для ее торжества.
Новый год был замечателен тем, что 29 января для тех из ссыльных минусинских социал-демократов, кто был арестован одновременно с Лениным, в 1895 году (в шутку их называли «декабристами», по дате ареста — 8 декабря), заканчивался срок ссылки.
Морозная сибирская зима тянулась для нас на этот раз особенно долго. В ожидании заветного дня мы деятельно готовились к долгожданному отъезду, мечтали о будущем, о том, как вновь примемся за революционную работу. Правда, дальнейшая жизнь представлялась в тумане, но главное в ней — борьба за освобождение России от гнета самодержавия, за создание революционной марксистской партии — было ясным и стояло в центре всего.
Владимир Ильич, готовясь к отъезду, продумал организацию нашей революционной деятельности после выхода на волю. О своих планах построения партии, о создании общероссийского социал-демократического органа, вокруг которого будет развертываться вся работа социал-демократов практиков, Ленин сообщал нам в общих чертах. Но каждому из нас в отдельности он давал совершенно конкретные советы, проявляя при этом большую заботливость. Пантелеймону Николаевичу он сказал:
— Вы семейный, и вам будет лучше всего поехать сначала в Омск. Я уже списался с главным врачом Омской железнодорожной больницы, который женат на сестре Веры Фигнер. Он дал согласие принять Ольгу Борисовну к себе, фельдшерицей. В Омске вы проживете некоторое время — до тех пор, когда я смогу вызвать вас для подпольной работы в Россию.
Собираясь в обратный путь, молодая часть ссыльной колонии вела себя довольно беспечно. Но Ленин, несмотря на всю свою занятость, нашел время, чтобы подумать и позаботиться обо всех, и принял в организации поездки самое деятельное участие.
Еще за месяц до отъезда я получила от Владимира Ильича письмо. В нем он давал два дружеских наказа: приготовить хорошо крытый зимний возок для моей маленькой дочки и меховой мешок. Кроме того, он просил заготовить «на всю отъезжающую братию» тысячи две замороженных пельменей. Советы эти были очень кстати, и я с признательностью оценила внимание и предусмотрительность Ильича. Мать я была еще молодая, неопытная, а нам своего детеныша надо ведь было везти ни мало ни много — пятьсот верст до станции железной дороги в зимнюю стужу.
Стали мы вдвоем с Пантелеймоном Николаевичем готовить крытый возок. Возок получился хоть куда. Мы его тщательно обили плотными ткаными сибирскими коврами. А для девочки я смастерила замысловатую шубку — мешок из двойного слоя беличьего меха, с капюшоном; она наглухо застегивалась спереди и снизу. Но… я переусердствовала: в этой шубке и в этом возке Оля так обливалась потом, что в конечном счете простудилась на первом же отрезке нашего пути — при переезде из Ермаковского в Минусинск.
Не все члены ермаковской ссыльной колонии с нетерпением ожидали дня общего отъезда. Ничего радостного не нес он Курнатовскому, срок ссылки которого еще не закончился, и Доминике Васильевне Ванеевой.
— Здесь могила моего мужа, — заявила она, — тут я и останусь жить…
С тех пор я больше ничего о ней и о ее сыне не слышала. И теперь, интересуясь, как сложилась жизнь Доминики после нашего отъезда, я не смогла найти ее следов. Возможно, что ребенок не выдержал суровой жизни, а вместе с ним и его мать… Но это только мое предположение.
Грустно распрощались мы с Курнатовским, Доминикой и маленьким Анатолием. По дороге в Минусинск я обнаружила, что мешок пельменей, добросовестно приготовленный мной по совету Ильича, — забыт в Ермаковском. Велико было мое огорчение, но возвращаться… В Минусинске уже собралась вся колония — дожидались нас. Узнав о забытых пельменях, кое-кто не удержался от упреков в наш адрес:
— Эх вы, революционеры, завели ребенка-обузу…
А мы — и так повергнутые в отчаяние новой болезнью ребенка, температура у которого поднялась до сорока градусов, — просто не находили, что возразить. Да и не до этого было нам. У Оли оказалось крупозное воспаление легких.
Никогда не забуду, как Ильич, с всегдашней своей чуткостью и тактом, горячо вступился за нас, молодых родителей:
— Очень хорошо, что есть ребенок! Значит, будет еще одна революционерка — Оля Лепешинская. А вы не огорчайтесь, я сейчас вызову врача.
С поразительной заботливостью он утешал нас, разыскал и привел врача и даже ночью вставал и приходил справиться о состоянии Оли.
— Ну какая беда, — бодро говорил он. — Выедете неделей позже. Ничего за это время не случится.
Всю ночь просидели мы в нашем номере над постелью ребенка. А утром вышли провожать отъезжающих. Все снаряжаются в дальнюю дорогу. Кругом радостные, оживленные лица. Владимир Ильич торопит со сборами, подбадривает, помогает… Общее настроение у всех приподнятое и боевое. Только мы горестно вздыхаем, оттого что не можем в полной мере разделить общую радость.
Но вот подъезжают ямские тройки. Мужчины выносят узлы и чемоданы, размещают и укладывают их в возках, усаживают поудобнее женщин и рассаживаются сами. Слышатся напутственные пожелания. Ильич просит не терять бодрости и обещает скоро написать.
Вместе с Надеждой Константиновной и ее матерью он садится в одну кошевку-сани; в другую усаживаются В. В. Старков, его жена и ее мать Эльвира Эрнестовна. Еще последние поцелуи, еще горячие рукопожатия.