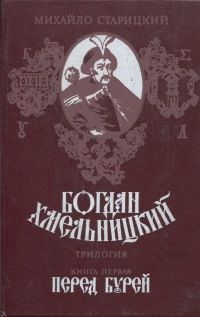Лицо казака загорелось молодой удалью, и нельзя было не заглядеться на эту могучую красоту.
— Но что делает от бессильной злобы сам польный гетман? — продолжал он, заскрежетав зубами. — Будь он проклят, собака, на веки веков! Посылает войска и на семь верст в окружности выжигает все до тла, вырезывает без сожаления всех — стариков, женщин, неповинных детей... Зарева от пожаров стоят перед нами... Простой народ бежит к нам в табор и приносит вопли и стоны неповинных людей... А мы, — вскрикнул он, встряхнувши так сильно молодое дерево, что листья посыпались кругом, — мы не можем броситься из табора и растерзать этого страшного пса, эту шипящую гадину на тысячи кусков!
— Боже, боже! — вырвалось у Ганны со слезами. — Ты же видишь все и молчишь...
— Да, панно, — продолжал Богун, — этот зверюка с аспидом Яремой разлили потоки неповинной крови, но нас не сломили. Они открыли самую свирепую осаду: к нам не допускали никого, а к ним все прибывали и прибывали свежие запасы и войска; от ржания их коней у нас не слышно было голоса друг друга. В таборе поднялся голод; его увеличивали прибывавшие массы люду, спасавшиеся от убийц и грабителей. Эти несчастные в конце концов нас погубили. На все просьбы и уступки Гуни — он только молил за казачьи права и за пощаду невинных — эти псы отвечали лишь усиленными штурмами, и клянусь честью казацкой, что каждый штурм им дорого стоил и не давал ни пяди земли! Но голод одолел не нас, а эту несчастную непривычную голытьбу. Она начала
роптать, что дальнейшее сопротивление — безумство, что оно вызовет лишь большую месть, и просила, требовала, чтоб мы сдались на вельможную милость. Мы возмущались, сопротивлялись, но черная рада так и порешила. Не отстоял своей воли на ней Гуня: побоялся, очевидно, измены, выдачи старшин, а потому, кто рискнул своею буйною головой прорваться сквозь цепь врагов, тот не подчинился раде; остальные же сдались на панскую милость.
Казак замолчал. Молча стояла и Ганна, с лицом бледным, как бы за одно мгновение похудевшим, с глазами, широко раскрытыми, глядящими с ужасом в темнеющую даль.
С дальних болот подымался сероватый туман, тишину прерывал только тоскливый стон ночной птицы; тихо падал с ветвей влажный отяжелевший лист.
— Что делать? Что делать? — слетело едва слышно с побелевших губ Ганны. — Неужели погибло все?
— Нет, — вскрикнул Богун, энергически хватаясь за саблю, и глаза его сверкнули молнией, — им не согнуть нас! Мы ищем Богдана... посоветоваться... написать петицию к королю. Покуда еще осталась хоть капля казацкой крови, борьба будет идти не на жизнь, а на смерть!
— На смерть! На смерть! — лихорадочно подхватила за ним Ганна, поднимая к небу руки. — И бог от нас не отступится!..
По широким ступеням крыльца поднялись Ганна с Богуном в будынок. Просторные сени делили его на две отдельные половины: налево помещались горница и писарня пана Богдана, направо была светлица и покои самой пани с обширною при них хатой, в которой долгими зимними вечерами при свете каганцов дивчата и молодицы собирались прясть, мере- жить сорочки, ткать полотна и. ковры. Ганна распахнула дубовую одностворчатую дверь и вошла в большую горницу.
Налево от двери в большой печи, имевшей нечто среднее между очагом и трубкой, пылал веселый огонь. Печка вся была обложена зеленоватыми изразцами, на которых были разрисованы яркими красками всевозможные бытовые картины: панна в колымаге, дивчына с прялкой, казак на бочке и целое собрание диковинных, никогда не бывалых птиц, рыб и зверей. Белые стены комнаты до половины были обвешены коцями (узкими и длинными ковриками), а между окон висели длинные персидские кылымы (ковры). Сами окна были небольшие, поднимавшиеся половиной рамы вверх; но все стеклышки в них были отделаны в круглые оловянные гнезда; над окнами висели шитые белоснежные рушники.
Вдоль стен шли длинные резные дубовые полки; серебряные кубки, фляжки и тарелки живописно красовались на них. Свет огня играл на блестящей посуде яркими пятнами и придавал комнате еще более нарядный вид. У стен стояли широкие липовые лавы со спинками, покрытые красным сукном; такие же маленькие дзыглыки или ослончики (деревянные табуреты), обитые тоже красным сукном, стояли вокруг стола. Весь передний угол занят был дорогими иконами; шитые полотенца, венки из сухих цветов окружали их. Большая серебряная лампада освещала темные лики святых красноватым светом. Под иконами стоял длинный гостеприимный стол, покрытый белою скатертью; хлеб и соль лежали на нем.
Через длину всей комнаты, под чисто выбеленным потолком, посредине тянулся толстый дубовый сволок — балка с вымереженным красивым узором. Посреди него снизу вырезан был старинный восьмиугольный крест, а под ним стояли слова: «Року Божого, нарожения Христова 1618, храмину сию збудовал раб божий Михаил Хмель, подстароста Чигиринский». С одной стороны сволока было вырезано большими славянскими буквами: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых», а с другой стороны стояло: «Да благословит дом сей десница твоя».
И на Богуна, и на Ганну пахнуло сразу теплом, уютностью и радостью жизни. Двое близнецов сидели на корточках у каминка, подбрасывая сухие щепочки и дрова; их личики раскраснелись от жара, и веселый смех наполнял пышную светлицу. Небольшая дверь в соседнюю горенку была открыта; из-за нее виднелась широкая, обложенная белыми подушками кровать; на ней лежала жена Богдана, приподнявшись на локте, стараясь следить за живительным огоньком. Подле нее прикурнула Катря, а в ногах, подперши щеку рукой, сидела приходившая к Ганне старушка.
Богун снял шапку и керею, поклонился иконам, а Ганна обратилась громко к Богданихе, стараясь придать своему голосу веселый тон:
— Титочко, посмотрите-ка, я вам гостя привела.
— Кого, кого? — всполошилась больная и, увидев Богуна, вскрикнула радостно: — А! Иван! Иди, сыну, сюда!
Богун перешагнул через порог, склонившись под низкою дверью. В этой маленькой комнатке было затхло и душно: всюду торчали засунутые за сволок сухие пахучие травы; пучки их висели и по стенам, и подле икон; там же теплилась и лампадка; большие сулеи и маленькие бутылки стояли на окнах. Пахло мятой и яблоками.
Богданиха приподнялась на локте к нему навстречу, а Богун склонился к ее руке.
— Ну, как вам, титочко? Давно не видел вас...
— Что обо мне, сыну! — перебила его прерывающимся голосом больная. — С богом не биться... А вот что с Богданом, не слыхал ли ты? Душой вся измучилась. Сердце за него мое переныло.
Благодарите бога, титочко, с Богданом благополучно: он в Кодаке... Вернется, верно, с Конецпольским.
— Матерь божья, царица небесная! — подняла больная глаза к темному лику, крестясь исхудалой рукой. — Ты услышала мою молитву! Ганно, голубко... акафист бы завтра отслужить!
— Хорошо, титочко, — ответила Ганна, останавливаясь в дверях.
— Ну, а ты присядь, мой голубь, — обратилась больная к Богуну, указывая на ослончик возле себя, — присядь... Ты издорожился, верно... Да расскажи нам, что там с нашими казаками? Вести худые отовсюду спешат... Ты, верно, знаешь?.. Скажи?
— И вести худые спешили недаром! — мрачно понурившись, ответил Богун. — Погибло все, сдались казаки... Потоцкий и Ярема разгромили табор.
Тихий женский плач наполнил комнату. Никто не утешал никого. Старуха плакала, покачивая головой, и маленькая Катря рыдала, прижавшись к матери; даже близнятки со страхом прильнули к Ганне, вытирая кулаком глазки. Никто не говорил ни слова; казалось, покойник лежал на столе. Наконец больная отерла глаза и обратилась к Ганне:
— Что ж, Ганнуся, на все божья воля... Будем его милости просить... А ты приготовь людям добрым вечерю... Идите, детки, идите, милые, — проговорила она ласково, кладя детям на голову руки, — вечеряйте на здоровье, покуда еще есть хоть кров над вашею головой.
Подали на стол высокие свечи в медных шандалах, появилась незатейливая, но обильная вечеря и пузатые фляжки меду и вина. Богуна усадили в передний угол; дети и старуха нянька уместились по сторонам. Дверь скрипнула, и в комнату вошли еще три обитателя: старый дед-пасечник, а за ним казак среднего роста, необычайно широкий в плечах. Одет он был очень просто; лицо его было угрюмо и некрасиво; узкие глаза смотрели исподлобья; брови поднимались косо к вискам; сквозь рассеченную пополам верхнюю губу выставлялись большие лопастые зубы. За казаком вошел и молодой,
лет тринадцати хлопчик, старший сын Богдана, Тим ко, ученик знакомого уже нам «профессора». Лицо мальчика было не из красивых, совершенно рябое от оспин и веснушек, с светло-карими, смотревшими остро глазами.
— Ганджа!{74} — изумился Богун при виде вошедшего казака. — Каким родом из Сечи?
— Дал слово Богдану... доглядать семью, хутор, — ответил тот хриплым голосом и затем прибавил, бросая на него исподлобья угрюмый взгляд: — Все знаю... Не говори ничего...