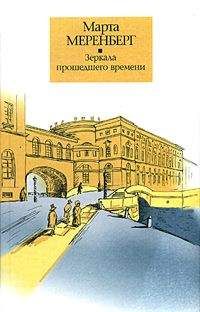Я уже дал свое письменное разрешение барону на твое усыновление. Только вот в последнее время он серьезно заболел и почти не выходит из своей комнаты. Врач, который приезжал к нему, сказал, что у него слабое сердце, и советует ему больше быть на воздухе и гулять. Однако он все время проводит дома и, что совсем плохо, в последние дни почти ничего не ест, страшно похудел и осунулся… Мы все очень переживаем за него, а он сказал, что даже если он умрет, то ты все равно унаследуешь его состояние и титул и будешь называться по его желанию барон Жорж Дантес-Геккерн…
Строчки плыли перед его глазами, расплываясь на бумаге большими жидкими кляксами, мир рушился, Луи умирал в далеком Сульце, а он здесь, в Петербурге, беспомощный и жалкий, отчаявшийся дурак…
Что ты наделал, Жорж… он умрет из-за тебя, а зачем тогда жить дальше?
Нет. Он не позволит себе больше переживать и плакать из-за предателя, сломавшего его жизнь. Он сейчас же напишет отцу…
Но сначала я поеду к Метману. Пусть делает со мной что хочет – бьет, унижает, насилует… только пусть даст мне этот свой опий…
Небрежно бросив рисунок в папку, он вышел, наспех пригладив перед зеркалом спутанные белые пряди волос и застегнув мундир. С Невы уже тянуло первой осенней свежестью, и сильные порывы ветра быстро осушили слезы на его бледном, измученном лице…
Он не видел, как вослед за ним от голландского посольства отъехал еще один экипаж, неспешно повторяя его маршрут. Человек, сидевший в экипаже, заметно нервничая, не терял его из виду и, заметив, что Дантес вышел у апартаментов Метмана, через пятнадцать минут позвонил в дверь. Впустивший его лакей попросил обождать и удалился, оставив незнакомого молодого посетителя в парадной. Этот посетитель в темном плаще встал, оглянувшись, и, чуть прихрамывая, легко проскользнул в полуоткрытую дверь, ведущую в покои Метмана…
Я встречи жду, как ждет росы трава,
Боюсь ее, как жизнь боится смерти…
Я наизусть все выучил слова,
Но буду нем, как белый лист в конверте.
Нет, мне любовь не подарила крыл —
Порой себя я просто ненавижу
За то, что жизни без тебя не вижу,
Что от тебя я этого не скрыл.
Да, я тем самым вынудил тебя
К сочувствию. Прости меня за это!
Ведь доброта твоя – светлее света,
Она теплом зальет меня, губя…
Поскольку в миг, когда отхлынет свет назад,
Моей души меня поглотит серый ад.
М. Кукулевич
А еще он летал, и сверху ему были хорошо видны двигающиеся по огромному залу фигуры, которые чарующе скользили, вспыхивая в сверкающем паркете яркими бликами, как пламя тысячи свечей. Военные мундиры, золотые позументы, эполеты, усеянные бриллиантами орденские планки, перья, цветы, бриллианты, переливающиеся волны шелка плавно двигались, кланялись, грациозно перемещались под звуки полонеза и слегка взмахивали руками в мазурке. «Кому они машут?» – думал он, пролетая под сводами высокого потолка, с удивлением отмечая, что не отражается ни в одном зеркале. Это, впрочем, его нисколько не смутило, и он подлетел к Натали Гончаровой, поклонился, приглашая ее на тур вальса, и, обняв ее за невероятно тонкую, дивной красоты талию, страшно удивился, что она не может взлететь. «Почему вы не летаете, Наташа?» – спросил он ее. Прекрасная женщина, склонив изваянную, как бутон на стебельке, головку, тихо прошелестела в ответ: «Где бы мне взять крылья…» – и засмеялась. Смех ее был больше похож на тихий ночной шелест листьев, как и ее манера говорить – она не говорила, а вышептывала слова, и он отчетливо слышал ее нежный голосок в шумном гуле волнующейся и гудящей как улей разряженной бальной толпы.
Она была в белом открытом платье и черном шнурованном корсаже, в длинных белых перчатках, черно-белая, как будто нарисованная одним взмахом умелого пера, плод изысканной фантазии художника-графика, но не буйной и не чувственной, а строгой и классической, как греческая камея. Вальс плыл над бальной залой Царскосельского дворца, Натали тихо смеялась, и он был уверен, что крылья у нее все-таки есть, но она почему-то скрывает это – наверное, не хочет, чтобы все видели.
Какие они, интересно? Как у бабочки? Ах, да нет же – ну какой я недогадливый. Как у ангела – она же ангел… О, Натали, мой ангел черно-белый…
Он сказал ей, что она – ангел, и она снова засмеялась, тихо и нежно, склонив головку к нему на плечо, и ее каштановые локоны упали ему на щеку. Потом, спустя некоторое время, летящее, как allegretto, он снова нашел ее в толпе, уверовав в ее божественное происхождение, и сказал ей об этом, и она посмотрела на него своими косящими и неуловимыми, как струящийся теплый песок, глазами, а он готов был упасть на колени и уже слышал, как в его голове звучит дивная мелодия католического гимна, слышанная им когда-то в детстве.
«Вы – мое спасение, Натали… Как vi prekrasni! – отважился он произнести заученную русскую фразу. – Я хочу молиться на вас, потому что вы – чисты, как небесная дева… Вы – как белое облако, тихо проплывающее мимо… Спасите меня, Таша, – я гибну… А я не хочу умирать…» Она легко провела кончиками пальцев по его лбу. «Отчего же вы гибнете?» – спросила она и услышала в ответ: «Я так люблю, Natalie, что мне остается только одно – умереть… А моя любовь – далека и недоступна… И надежды у меня нет, милая Таша, и даже слез не осталось, а есть только крылья, но я так боюсь упасть и разбиться…» «Кого же вы любите, Жорж?» – прошелестел ее голосок, но Катрин, летевшая мимо, легко подхватила разговор, закружила его в танце, хохоча, обнимая его своими смуглыми руками, дразня и кокетничая… Смуглая леди сонетов, подумал он и решил, что будет молиться одному ангелу – Натали, но ему захотелось коснуться рукой веснушчатых плеч смуглой леди, потому что они казались на вид горячими, как огонь, но он так боялся обжечь крылья – больной мотылек, летящий на пламя…
А вот и танцующая императрица – коронованная белая лилия, величавая и воздушная, пронеслась мимо в объятиях молодого кавалергарда… Ласково кивнула Жоржу и Идалия в горностаевой накидке, прекрасная и порочная, огненная саламандра, не сводившая сверкающих кошачьих глаз с полковника Ланского… О Брей! – какая честь… Танцуя котильон с Катрин и Натали, он снова наблюдал, как стремительное людское море извивается, распадаясь на реки и ручьи, образуя разноцветные острова, и он выдохнул на ухо Катрин:
– Я хотел бы быть лодкой, чтобы пристать хоть к какому-нибудь берегу…
Катенька улыбнулась, удивилась, кокетливо повела смуглым плечиком, но, внимательно всмотревшись в его глаза, вдруг сказала, ахнув:
– Жорж! Что с вами? Вы не больны? Откуда у вас черные круги под глазами? Вам надо на воздух, сейчас же, немедленно!
Дантесу начало казаться, что потолок стремительно снижается и может вот-вот рухнуть на него, а в самой бальной зале медленно гаснут свечи, как в театре. Ему не хватало воздуху, стало тяжело дышать, и он, ласково стиснув тонкую сильную руку Катрин, прислонился к стене, стараясь не показывать, как ему плохо. Его тонкие крылья бессильно поникли, отказываясь снова вознести его над бальной суетой, и теперь он четко видел, что зала полна разноцветными насекомыми – ползающими жуками, порхающими стрекозами с огромными глазами, извивающимися в причудливом танце гусеницами…
– Ну что вы, дорогая Катрин… Вам показалось… Здесь и вправду душно – но я выйду в сад… позже. Не сейчас. Давайте еще потанцуем – вы так прекрасно двигаетесь, Катя, и я счастлив, что могу побыть с вами еще… Видеть вас, танцевать с вами – какое блаженство, и если бы я только мог…
Он запнулся на полуслове, увидев насмешливые глаза Кати Гончаровой.
– А можно без этих вот обязательных банальностей, барон? Я не хочу показаться грубой, но так не люблю, когда лгут… А вы, барон, лже-е-ец… – протянула Катрин, слегка ударив его по руке изящным резным веером.
– Простите, Катрин… Я не хотел вас обидеть – но вы и вправду очень нравитесь мне. Вы – необыкновенная девушка… И вы знаете – вам так идет загар…
– Опять вы лжете! – рассмеялась Катя, расходясь с Жоржем в котильоне по разные стороны. – Натали! – окликнула она побледневшую сестру. – Береги себя… Слышишь? Тебе бы не надо столько танцевать…
Государь в парадном зеленом австрийском мундире с золотыми эполетами, разгладив усы, подошел к Натали Пушкиной и важно подал ей руку. Таша присела в глубоком реверансе, опустив глаза, и Николай Павлович пустился с ней в тур медленного вальса под завистливые перешептывания барышень и дам. Она не смела поднять на него глаза, а он что-то шептал ей на ухо, и она краснела, чуть улыбаясь и покачивая своей чудной головкой в каштановых локонах. Ее большие белоснежные крылья, как показалось Дантесу, стали еще заметнее, они плавно поднимались и опускались за ее спиной, а рука государя, уверенно покоящаяся на ее осиной талии, была похожа на толстую зеленую гусеницу, вальяжно рассевшуюся на ветке вишни. Жоржу вдруг стало очень смешно, и он тихо рассмеялся, отойдя в сторону и закрыв лицо руками. Кажется, в зале еще больше потемнело, и он, стремительно развернувшись, помчался на ярко освещенную парадную лестницу, ведущую в роскошный, украшенный разноцветными фонариками царскосельский парк.