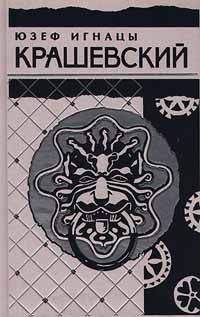— Может быть, в этом и несчастье ваше.
— Ведь так или иначе пройдет жизнь, — говорил Лузинский, осушая стакан.
Все это не слишком-то занимало барона, — ему нужны были другие сведения.
— Конечно, вы знаете окрестных помещиков? — сказал он.
— Немного… впрочем, мы все здесь знакомы.
— А графов Туровских знаете?
— Этих нельзя не знать, — отвечал Лузинский, у которого шумело в голове.
— Старинный панский род, богатый?
— Некогда был богат; но теперь кое-что осталось у двух паненок, несчастных невольниц, а остальное имение разорено. Старик при смерти, сын-горбун, конечно, предполагает похоронить сестер или жениться хоть на горбатой, но богатой. Полированная нищета…
— Но девицы? — спросил барон.
— Те должны быть довольно богаты. К счастью, мать их умерла в молодости, и состояние осталось нетронутым; но что им до него? Их держат взаперти, и мачеха, конечно, не допустит, чтоб которая-нибудь вышла замуж. На страже стоят кузен-француз и братец, заботящийся о наследстве, а притом привычка к неволе отняла у бедняжек и надежду, и всякое желание видеть свет…
— Может быть, — отвечал хладнокровно барон, — тем более что панны уже не первой молодости, да и состояние, о котором говорят, быть может, сомнительно.
— Что до последнего, то вы ошибаетесь! — воскликнул Лузинский. — Состояние положительно большое, и вы не найдете у нас человека, который не определил бы его.
— Например? — спросил барон небрежно.
— В самом крайнем случае у паненок будет по полмиллиона злотых, если бы даже их и ограбили.
Барону окупилось уже шампанское, и он только для того, чтоб скрыть свое удовольствие, снова начал расспрашивать о Скальских.
— Панна Идалия была бы не бедна, — отвечал весьма откровенный Валек, — но если продадут аптеку, о чем именно, кажется, теперь и идет забота, то растратят то, что в ней заработали. У нас в городе состояние их определяют в полмиллиона злотых, но кто же знает, как отец разделит детей? Надеюсь, впрочем, что панна Идалия не допустит относительно себя несправедливости.
— Кажется, эта панна без сердца должна быть практичная особа? — заметил барон.
— Наш век — век практических людей, — сказал Лузинский насмешливо. — Есть даже поэмы и разные философские сочинения практичные и непрактичные. Тайна практичности нашего века заключается в шарлатанстве. Оно придает крылья, раскрывает уста, подставляет пьедестал и служит смазкою, без которой не действовала бы машина эпохи. Кто не обладает этою способностью, горе тому: он останется непрактичным и отверженным.
— А вы стоите за нее?
— Думаю приняться за ее изучение, потому что никакой гений без нее не принесет пользы, — отвечал Лузинский. — Необходимо, чтоб перед ним били в барабан и играли на трубах, а иначе проскользнет незамеченным.
Барон зевал внутренне, устал; теория шарлатанства нисколько его не занимала; он узнал, что было ему нужно, а так как ему хотелось поскорее ускользнуть, то, допив вино, он принялся уверять Лузинского, что чрезвычайно приятно провел вечер, потом взял шляпу, спросил счет, и в приятном убеждении, что день не потерян, отправился в отель, где ему обещали принеси в номер картофель и приготовить ночлег.
Лузинский поднялся в свою комнату; он немного размечтался, но торжествовал.
И в то время, когда добрый Милиус со слезами на глазах проходил мимо пустой комнаты, не смея взглянуть на ее дверь, чтоб она не напомнила ему воспитанника, Валек без малейшего зазрения совести ложился в мягкую постель, говоря в душе: "Старик раскается, да поздно!"
Он был прав: доктор не мог сомкнуть глаз, и всю ночь попеременно то читал физиологию, то ходил по комнате. Утро застало его на ногах, и он заснул наконец лишь от изнеможения. Лузинскому снились лавры в Капитолии.
На другой день Валек, по своей похвальной привычке, проснулся только в восемь часов; он, может быть, проспал бы и дольше после приятного вечера, если б его не разбудил стук в дверь. Полагая, что заботливая хозяйка прислала ему кофе, Валек поспешил одеться и побежал отворить дверь; но на пороге стоял докторский мальчик, который и вручил ему запечатанный конверт. Молодой человек обрадовался, будучи уверен, что доктор извиняется и зовет назад к себе, и уже заранее обдумывал условия прощения; но мальчик, не ожидая ответа, быстро удалился. В распечатанном же конверте не было ни слова от Милиуса, а находились только необходимые бумаги и свидетельство, которые могли быть полезны воспитаннику. Отсылка их означила, что доктор не думал о примирении, а, напротив, желал и на будущее время избегнуть всякого повода к сближению.
Занятый невольно этим наследством после матери, которого никогда еще не имел в руках, Лузинский уселся разбирать бумаги, с целью узнать из них что-нибудь больше о себе. Милиус редко вспоминал о его матери и о подробностях к ней относившихся, и Валек как-то мало заботился об этом, считая себя усыновленным приемышем и наследником доктора; но со вчерашнего дня неожиданно изменились обстоятельства, и его начала более занимать будущность.
Бумаги, однако ж, немного объясняли. Мать Лузинского родилась за Бугом, воспитывалась и жила у весьма дальних родственников в Турове. Хотя это родство и было почти фантастическое, ибо степени его определить не представлялось возможности, однако, чрезвычайно льстило самолюбию молодого человека, и он дал себе слово им воспользоваться.
До тех пор он был ярым демократом, смеялся над Скальскими по поводу их шляхетских претензий, но, став вдруг дворянином по матери, он вырос в собственных глазах и как бы почувствовал себя сильнее. С другой стороны, однако же, он мог считать себя униженным, ибо хотя бумаги и не подробно объясняли, но он мог убедиться, что замужество матери было причиной удаления ее из Турова. Значит, она вышла не только не за шляхтича, но и за кого-нибудь такого, с кем Туровские не хотели иметь ни малейших отношений.
Из писем и заметок видно было, что супруги Лузинские жили вместе недолго, что покинутая мать Валека умерла в бедности, а муж ее скрылся неизвестно куда. Она, однако же, до самой смерти ожидала его возвращения, надеясь, что он позаботится о ребенке, вспомнит о ней; но его долговременное молчание наводило на мысль, что он, должно быть, погиб. Что касается до отца, то Валек не мог ничего найти в бумагах ни о его происхождением, ни о состоянии, ни о роде занятий. Казалось, однако ж, что он должен быть родом из окрестностей или из самого городка, и имел какое-то место в Турове, когда женился на его матери.
Но это были скорее одни догадки.
Пересмотрев еще раз бумаги и положив их вместе с деньгами, которые решил носить с собою, Валек начал придумывать, что ему делать? Нельзя же оставаться в ресторации, в городе, на глазах у любопытной толпы, без занятия и, в особенности, имея в кармане сто тысяч злотых, которые для каждого могли служить прекрасным основанием для того, чтоб нажить богатство.
Разумеется, его манила столица, литературные занятия и слава, но непреодолимая лень убеждала его не спешить, и он задумал сначала под видом собрания сведений о матери отправиться в Туров. Кто знает, это, может быть, и обещало какую-нибудь пользу, но во всяком случае не следовало пренебрегать возобновлением отношений с аристократическим кругом.
Если бы даже графы Туровские отреклись от этого родства, то какой превосходный сюжет для разгромления аристократов, которые не хотят знать убогого родственника!
Свобода имела, как он сам убедился, свои хорошие стороны; он мог делать, что хотел, но нелегко ему было пожелать чего-нибудь решительно, ибо ему недоставало пружины, называемой волей, которая управляет человеком. Он решился обдумать все хорошенько, так как ничто еще его не понуждало.
Немало он только удивлялся тому, что доктор, который, конечно, несколько раз пересматривал его бумаги и должен был знать об этом родстве, никогда не намекал об этом, так же, как и о его отце.
Таинственный этот отец, имя которого только было упомянуто в венчальном свидетельстве, в котором он прописан не как шляхтич, — нигде более не показывается в бумагах. Валек, однако ж, надеялся узнать что-нибудь больше от старых людей в Турове. Вероятно, под покровом этой тайны скрывалась и не драма, но все-таки нечто, о чем необходимо было знать сыну. Почему же доктор, которому должна была быть известна причина отлучки егс отца, никогда не вспоминал даже об этом?
— Все это необходимо объяснить во что бы то ни стало, — подумал Лузинский, — я в этой неизвестности жить не могу. Если даже отец и провинился в чем, то вина не падает на меня, а может быть, он пал жертвой клеветы, преследований, несправедливости.
Видя, что пани Поз не думает присылать ему кофе наверх (может быть, это входило в особый расчет прекрасной вдовы), Валек пошел в ее комнату и застал ее без обычной повязки, бледной, интересною и довольно старательно одетой. Она чрезвычайно радушно встретила его. Первый раз пришло Лузинскому в голову, что ему могли расставлять сети, и он, как человек практичный (несмотря на гений), решился быть осторожным.