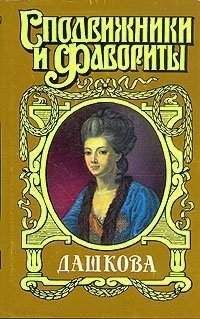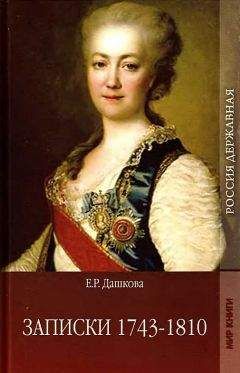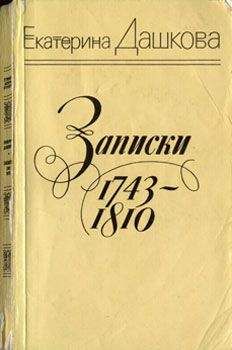— Что же я, государыня. Как велите.
— Вот и славно. Иди в антикамеру жениха обрадовать, а я сразу и сговор назначу. Чего тянуть-то? А впрочем, кликнем-ка его сюда. Эй, кто там, Воронцова Михайлу Ларионыча ко мне! А, господин камергер, ты здесь? Поздравляю! Передала я невесте твое предложение. Она согласна. Свадьбу через месяц назначим. А что, если на день святителя Никиты Новгородского, тридцать первого января? Святой-то больно хороший: от молоньи да пожаров охраняет. Вот пусть их в жизни вашей никогда и не будет.
…В воронцовских палатах тревога. Чины, земли… кажись, ни на что новая императрица не скупится, да больно щедрой рукой всем раздает. Тем, кто и прежним правителям служил, угодить хочет. Вот и выходит: как всем, Воронцовым достается. И места их не то что самые первые, а день ото дня больше в толпе. Старого стольника мысль мучит: недополучат сейчас сыновья, дальше и ждать не приходится. Не одного самодержца перевидал, а все на одно выходило. Не любят самодержцы добро да верную службу помнить, ой не любят! Кому больше обязаны, тех быстрее с глаз убирают. С чего бы Елизавета Петровна лучше родного батюшки аль родимой матушки оказалась. Нарышкины — они и вовсе скаредные. Вон государь Петр Алексеевич носки, прости Господи, до седьмых дыр занашивал, о ночном колпаке и не говорил. Сколько Елизавета Петровна поначалу даст, на том дело и кончится: жалеть начнет, траты считать. Торопиться, торопиться надо с монаршьими милостями. Да и сам бы Ларион Гаврилыч не прочь за сыновнюю службу благодарность императорскую получить, только спроворить суметь…
— Послушай, братец Михайла Ларионыч, а с ними как будет? Тебя, скажем, императрица по всем статьям удовольствовала: и чины, и при дворе самое что ни на есть высокое место, и жена с приданым, в императорскую опочивальню без доклада вхожа. Вот только вспомнить бы тебе: не твоими деньгами цесаревнин двор держался — Марфиными. Без моей Марфы Ивановны куда как туго цесаревне бы пришлось! А мы с ней — не то что я, она сама ни места при дворе, ни чина статс-дамы не получила. Где ж такая неблагодарность видана?
— Сам вижу, Роман, а как подступиться, не знаю. Теперь ведь запросто в царские покои не войдешь. Мавра Егоровна дверей не распахнет. Аудиенцию надо заранее получить. А на аудиенции снова с глазу на глаз почти никогда не бываешь. То тебе секретарь, то разные придворные чины, камер-юнгферы тоже туда-сюда бегают. Вот разве Алексею Григорьевичу поклониться, чтобы государыне напомнил?
— Это что, нам-то, Воронцовым, пастуху кланяться, чтобы наши кровные денежки заслуженный доход принесли? В себе ли ты, Михайла?
— Зря в гнев впадаешь, братец. Так оно и есть. Мавра Егоровна и та у Разумовского защиты да поддержки ищет. Про свою «кумушку-матушку» и думать забыла. Если удача выпадет, можно ее императорское величество лицезреть. Просить-то и можно, а о старых долгах ни-ни. Такое до добра не доведет. Тут изловчиться надо.
— Так кто ж тебе мешает? Думай, изловчайся. Сам знаешь, при дворе сегодня ты нужен, а завтра от ворот поворот — никто и имени не вспомнит. Конечно, пока твоя Анна Карловна защитой послужить может, да ведь и то до первого неудовольствия. Императрица наша чистый порох. Ты лучше вспомни, как на кончину да похороны отца Анны Карловны приехать не соизволила. Мы все еще тогда в Александровой слободе время коротали. А спроси почему — покойников не любит, и весь сказ, хоть граф Карл Самойлович из родни царицы самый близкий.
— Поунялся бы ты, Роман Ларионыч, язык бы не распускал! Тут тебе не Александрова слобода я не матушка цесаревна. Государыня подчас круче батюшки своего покойного бывает, а уж слова назад нипочем не возьмет. Остерегаться, братец, надо! Ой как остерегаться! Помяни мое слово, в Сибирь скоро дорогу такую раскатают, какая покойной Анне Иоанновне и не снилась.
— А верно ли, будто Бирону послабление вышло?
— Куда вернее. Из Пелыма в Ярославль перевели, ходить без стражника разрешили, делами заниматься.
— Ишь ты. И государыню невесту порушенную, Екатерину Алексеевну Долгорукову, вернули?
— Ее-то прямо в столицу. Небось после трех лет молитв под клобуком монашеским в одиночной келье монастыря Горицкого мир ей чудным показался.
— Вот поди ж ты, кого только государыня не вернула. Тут тебе и живописцы Никитины — Иван-то не доехал, по пути погребли незнамо где. И меншиковская золовка Арсеньева Варвара, и асессоры, и монахи. Всех не упомнишь. А государыня запомнила.
— Только одного Романа Воронцова с семейством забыла.
Вот и наше время пришло. Батюшка Ларион Гаврилович так и говорит: воронцовское. Теперь, мол, все от нас с Романом одних зависит, что от государыни получим, каких милостей удостоимся. Коронация, после нее какие споры? Только все равно глаз да глаз нужен. Мало ли! На власть императрицыну не покусятся, так Воронцовых как раз сметут. Царский гнев что порох, оглянуться не успел — вспыхнул. Не так ярко горит, как долго тлеет.
В Москве все чинно было. Благолепно. От Тверских ворот триумфальных до Куретных в Китай-городе ланд-милицкие полки стояли. У триумфальных ворот Синода — студенты Московской Славяно-греко-латинской академии. По двадцать человек с каждой стороны. В белых одеяниях. На главах — венцы. В руках — ветви лавровые. Песню спели преотличную, дай Бог память:
Изо всех сторон
Вдруг стал свет дивно.
Все переменися,
Весело смотрети,
Власть свою имете
И ветер здешний хладный
В зефир прохладный
Превратить…
Министры от шести дворов европейских собрались. От Франции — старый знакомец, дай ему Бог доброго здоровья да всяческого процветания, маркиз де Шатарди, всяческих похвал и доверия достойный, преотличнейший человек. От Венгрии — господин Гохгольцер. От Пруссии — барон де Мардефельд. Хоть не любит государыня пруссаков, а барону благоволит. От Голландии — де Шварц, креатура малопримечательная. Да и какие у нас интересы с его державой. Было время — прошло. От Саксонии — целых двое послов: Герсдорф и Пецольд, злобой так и пышут. И то сказать, каково им с Брауншвейгской фамилией прощаться. Досада одна. От Голштинии — господин Бухвальд. Здесь держава, так скажем, родственная. Государыня, жалуя меня в вице-канцлеры, так и сказала: следи за канцлером Бестужевым-Рюминым — первый тебе наказ, второй — на одного голштинского посланника полагайся. С ними нам дела государственные иметь.
Оно и понятно, единственный племянник императрицы, покойной цесаревны Анны Петровны сынок, в Киле растет. Не иначе захочет его государыня в Петербурге около себя видеть. А как же! Графиня Мавра Егоровна сказывала, что не забыла государыня и жениха своего покойного, епископа Любекского. Очень по сердцу пришелся. Все оттуда! Кабы ее воля, еще когда с сестрицей в Киль уехала, — государыня Екатерина Алексеевна согласия не дала. Зато теперь империей управлять станет. Господь знает, как судьбами человеческими распорядиться.
Оно и то верно, народ много меньше радовался, чем мог. Братец Роман первый о том сказал. По Москве ездит, в поместья женины наведывается — людей видит. Как-никак шестнадцать лет со дня кончины государя Петра Алексеевича прошло. Сколько правителей смениться успело. Забылось старое-то. Память людская скорее доброе, чем злое, забывает. А было и при Петре Алексеевиче разное, ох было! Поди, потому государыня затеяла и театр в Лефортове наскоро строить. Не придворный — городской. Так и нарекла: Оперный дом. Архитекта графа Растреллия позвала. А от Петра Трезина отмахнулась: прост очень. Императорского великолепия не уразумеет. Где там! Акромя Растреллия и разговоров нет. На пять тысяч мест театр строит. Махина, аж страх. Чтобы весь город собирать. Чтоб в день спектаклей ввечеру по всему городу фонари да плошки на улицах зажигать — для безопасности проезду. Чистая иллюминация! Коновязи у театра на полверсты протянулись. А себе дворца строить не стала. В Петербурге жить будет. Оперный дом — для старой столицы подарок. Тот-то, первый, что покойница Анна Иоанновна на Красной площади возвела, в пожар 737-го года сгорел. Будут оперы дивные слушать, Елизавету Петровну помянут, — собственные государынины слова. А для жизни и отцовские покои сгодятся. Всему свое время.
— Братец Михайла Ларионыч, разговоры кругом о Брауншвейгской фамилии пошли. Слыхал, сколько народу надзирателями за ней набиваются. Денег, понятно, на фамилию в достатке дают, почему бы ими не поуправлять.
— Сам не знаешь, что плетешь, Роман. Да к фамилии лучше близко не подходить. Какие там деньги. Это поначалу государыня о деньгах советовалась, после все наперекосяк пошло.
— По какой такой причине?
— Мой тебе совет, Роман Ларионыч, поменьше любопытствуй, покрепче язык за зубами держи. Одно дело цесаревна, другое — царица. Никаких шуток да глупостей императрица не приемлет. Вспомни, сколько, сказывали, государь Петр Алексеевич обиды помнил — всю жизнь? А дочка-то вся в отца.