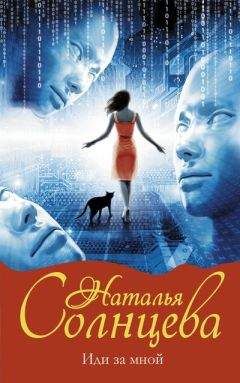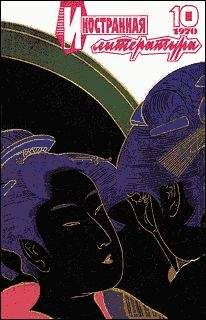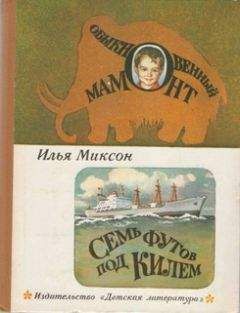Он бы запорол меня: визжал и целился кортиком в мой живот. Тима подставил ногу, Славка упал. Кортик звякнул и провалился в щель настила.
— Папин кортик… Я узнал! Щербина на рукоятке! Где папа? Куда девали папу, хамье?
— Буржуенок, — пробурчал Павлик, пятясь к бурту бревен. — Тю-ю, припадочный. Макнуть его в воду, может, очухается?
Сзади раздался внезапный окрик:
— Что здесь происходит?
Какой-то дядька, судя по брюкам-галифе и кобуре на поясе, военный, торопился к причалу.
— Легавый! — ахнул Павлик. — Тикай, бражка, мильтон топает!
Тима сгреб Славку за шиворот и поволок прочь, подбадривая оборванца пинками.
— Шагай ножками, Золотник. Канай, а то прибью!
Я, краем глаза поймав, что ключи от кубрика в замке, поспешил навстречу милиционеру:
— Ничего такого, — объяснил. — Беспризорники подрались.
— Едемский, что ль? Предъявляй документ.
Рукавом он промокал потный лоб. Из расстегнутой кобуры выглядывала рукоять нагана.
— Нету документов.
— У всех нету, блюди тут с вами революционную законность! — распалился милиционер. — Зачем шпану отпустил?
В минуту я от него устал и устало попросил:
— Мне нужен Урпин.
— Кем ему доводишься? — страж порядка кинул в меня подозрительный взгляд. — Свой или так понадобился Урпин, по службе?
— Свой, — сказал я. — Племянник.
— Спрос на Урпина, — вымолвил милиционер поотходчивее. — Да на тебя, кавалер, тоже спрос! — Он подмигнул, распустив пухлые губы в ухмылке. — Эй, барышня, ну-ка, покажись.
Из-за бревен показалась… Виринея!
Гора с плеч, дышится легче и небо стало светлей — теперь я точно не один. Одного мы с ней поля ягоды. Сколько раз я вспоминал на вахтах: кабы Вирка была в рейсе…
Я шагнул ей навстречу — и словно запнулся. То была конечно Вирка: знакомый домашний сарафан, камышовая кошелка для беготни по лавкам. Ее белый платочек на рыжих волосах… Но это не ее глаза, плотно сжатый рот и жалко вздрагивающий подбородок! Ее качает, едва на ногах держится! Не поддержи я, упала бы.
— Полусапожки жмут, — пролепетала она жалобно.
— Фу-ты, — полусапожки! Не знал уже, о чем думать… Полусапожки!
Я усадил ее на бревно. Заслоняя собою от милиционера, принялся разувать. Полусапожки-то разные! Один черный, другой коричневый, и оба на правую ногу.
— Ну, Виринея, — шипел я. — Ну-у… Дернуло тебя обуваться на босу ногу да в разные ботинки…
— Я вас с Алексей Николаевичем искала.
Вот-вот, всегда оправдается.
— Искала, да? Пехом шлепала до Котласа? На что ноги похожи?
Милиционер вмешался:
— Не очень-то разоряйся, беженка она, имей вниманье.
— Что вы, он всегда бесчувственный! — губы у Вирки изогнулись подковкой и слезы тут как тут. Обижают ее, бедненькую, приголубьте ежа рыжего.
Я смотался на баржу, черпнул забортной воды и с ведром в руке предстал перед плаксой.
— Суй ноги в воду, отойдут…
— Эх, ребята, ребята… — Милиционер погрустнел. — Побудешь с вами: войны нет, забот нет. На том вам, ребята, спасибо! Да смотрите в оба: Котлас — у нас варежку-то не разевай.
Застегнул кобуру и ушел.
Остатки картошки я скормил Вирке.
— С утра, Сережа, крохи во рту не было. Чего я в Архангельске насмотрелась, если б ты знал!
Увел ее в кубрик.
— Ночью и то по причалам ходила, Сережа, искала.
Я молчал. О чем говорить человеку, бежавшему в разных ботинках, только не оставаться у Сатаны и либавской вдовы.
Их взяла — пал Архангельск!..
Сказал Вирке, что отец ранен.
Легла Вирка, щеку пристроила на ладонь.
— Сережа, ты не беспокойся, я госпиталь найду. Не пустят — добьюсь. Назовусь дочкой, — это ничего? За вранье не считается?.. А твоего дядю Костю не видела. Он нынче в ЧК, вот!!…
Почмокала она сонно, свернулась калачиком.
Золото — не девчонка. В госпиталь сбегает, отца навестит. Узнала, что Урпин в ЧК работает. И мне забот меньше.
Я укутал Вирку отцовским плащом-дождевиком и каюту запер за собою на ключ. Пусть отдыхает, успеем наговориться.
С вечера посвежело, заподувал ветер.
Баржа, ласкаясь, терлась бортом о причал.
Связались ниточки в узелок. Понимаю, догадываюсь, почему пущен был груз по реке, в барже, считай, без охраны, а выбор — кому вести баржу, — пал на моего отца. Я-то случайно попал в переплет. Не готов был к испытаниям, какие свалились на плечи, и оракул, с детства верный, не подсказал.
Но что если я прибедняюсь?
Были — домик в Кузнечихе, чиненый-перечиненный карбас, вылазки с отцом на рыбалку и в лес, костры под нависью хвойной, ночной…
Немало у меня было, нечего прибедняться!
Только буду ли я прежним-то? Не остался ли я, прежний, у того зеленого угора, с которого махал белый платок?
Поскуливая, подобралась ко мне бездомная хромая собака.
Чего дрожишь, песик? Давай не скули. Мы с тобой ровня, раз ты бездомен, как я, и я стерегу добро, как пес. Хром ты — значит Сильвер. Не прочь подружиться, Сильвер. Не ластись, полно. С некоторых пор не выношу тех, кто льстит и лижется. Последнее им отдашь, да они тебе же кишки норовят выпустить. Папиным кортиком, семейной реликвией! Папа, знаешь, патриот, у него обязательства, он всегда прав и может утопить ребенка-несмышленыша, перебунтовать пьяных мужиков…
Днем, обойдя причал, я нашел, что забор, ограждающий пустырь, — сущая дрянь. Столбы вкопаны мелко, зимой их вымораживает, и они стоят вкривь и вкось. Ворота я затворил, для надежности подпер бревном.
Отыскалось уютное местечко. На бревнах, на самой верхотуре. Обзор хороший. Зато не зевай. Чуть забудешься, и загремишь за милую душу вниз, так как кора бревен подопрела, лезет, как чулок.
Таскался за мной хромой Сильвер. Вместе мы взобрались на штабель.
Пес иногда предупреждающе ворчал. Падало сердце: смена? Идет моя смена?
Ночь накатила пасмурная. Дождь затуманил залив.
Появились люди. Трое в лодке.
Речники, вероятно. Один в капитанской фуражке. Пристали они к пустой барже. Понадобился, видно, порожняк…
Недолгая возня — люк откинут.
Речники, больше некому.
Сильвер дыбил загривок. Мышей, что ли, псина чуешь?.. Я зевнул. Э-эх, храпака бы задать.
— Едемский! — окрикнули с баржи.
Неужели речники — моя смена?
— Я! — меня будто подкинуло с места. — Я здесь!
Нечего подскакивать было на подопревших бревнах: загремел я вниз вместе с собакой. Но это меня и спасло — сверкнула вспышка, от бревна, где я только что торчал, как курица на насесте, брызнула щепка.
Ободрался я, насадил синяков. Пес, остервенело лая, кинулся к причалу. Я пополз, укрылся за могучей лесиной, брошенной у штабеля, и достал маузер, теплый от тела.
Первая гильза, выщелкнутая выбрасывателем, обожгла щеку. Второй выстрел был удачнее. Во всем, видно, навык нужен.
Пес завизжал — уже возле баржи.
Ах, лопух, опять по дешевке купили! Бандитов за речников принял. И нажимал спуск, ловя на мушку маузера мечущиеся по барже фигурки: получайте наличными! Пришел и мой черед!
За спиною затрещали то ли доски забора, то ли ворота.
— Шуруй, племяш… Шуруй! — знакомый голос.
Урпин? Дядя Костя?
Пустырь, оказывается, был оцеплен: недаром пес щетинил холку.
Я опустился перед ним на колени. Корки не досталось Сильверу, всего только доброе слово, но он ринулся защитить и принял пулю, предназначенную, возможно, мне.
— Хватит, хватит, — дядя Костя силой отвел меня в сторону. — Сбегай на баржу, девчушка стучится, кулаки, поди, отбила.
— Ну-да… — я не узнавал собственного голоса. — Ну да, из пушки пали, не проснется. Не первый год Вирку знаю. А постучится — тоже не убудет!
Урпин взял у меня маузер. Взвесил пистолет на ладони, вздохнул и, помедлив, отдал.
Качалась на волне лодочка, баюкала убитого. Упал у руля, свесил над водой голову. Второй валялся на барже, третий — на причале…
— Мы по ногам били, живьем хотели взять, но ты положил их, Серега…
Как понять — упрек это или похвала?
Отрывисто гудел на реке буксир, с путей отзывался ему паровоз.
— Ну, запомнится ездка-то? — спросил дядя Костя.
— Спрашиваешь!
— Вот и забудь… Ездка была как ездка, баржа шла, скажем, под углем. Усек?… О грузе не волнуйся, конвой выделен надежный.
И как по заказу, в дальнем конце пирса показались матросы, человек двадцать, с ними двое-трое гражданских и высокий военный в кавалерийской шинели до пят.
Смена. Дождался!
Почему-то, однако, было мне грустно…
При разгрузке удалось наконец воочию убедиться, какие сокровища скрывала баржа — обшарпанная наша шаланда с сигналами на мачте:
«НЕ ПРИСТАВАТЬ! НЕ ЧАЛИТЬСЯ!»