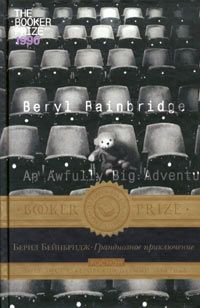Он странно на меня глянул. Я улыбнулся и его уверил, что галлюцинациями не страдаю, просто мысли о Беатрис меня спасают от умопомрачения. Я понял, что его встревожило: я не помянул тот человеческий фрагмент, о который споткнулась Миртл. Я мог бы ему порассказать, как слышал дождь, грохочущий по тропе, и он отзывался в моих ушах смертным хрипом. Я точно мог описать самый угол, под каким торчали те пальцы... но будь в моей власти холодно и бесстрастно рассуждать о таких вещах, как, без сомнения, дано ему, если по целым дням он может смотреть на подобные ужасы, моя жизнь была бы легче и речь свободней.
А так мне приходится держать себя в строжайшей узде, чтобы не поддаться впечатлению минуты. Это и разумеет Гораций, когда советует внимательно останавливаться мыслью на том, что наилучшим образом в нас поддерживает спокойное состояние духа. Я должен сносить и терпеть все, как оно есть, не мечтая ничего изменить. Вот почему я пристально вглядываюсь в прошлое с целью проследить, что привело меня в это Богом забытое место именно в этот исторический миг — судьба или случай.
Так, услыхав грубый говор шотландского кавалериста, я задумываюсь о детских своих связях с его корнями. Хотя родом из Манчестера, отец мой одно время был представителем Лейтонского стекольного завода, в каковом качестве колесил по Гебридам в поисках келпа. Воротясь домой из такой поездки, он привез мне однажды четырехколесную жестяную кибиточку, запряженную деревянной лошадкой. Перед тем как меня уложили спать, я успел разобрать тележку. Мною двигала вовсе не страсть к разрушению, но любознательность: хотелось понять, как слажены все ее части. Не помню, пришлось ли мне отведать за это розог, впрочем, едва ли, отец был добрый человек.
Там, в Шотландии, впервые пристрастился я к геологии; берега Кромарти были усеяны обкатанными обломками горных пород, происходящих от западных глинистых сланцев. В последующие наезды, все свое детство я с прилежным наслаждением бродил по грядам расколышенной частыми штормами гальки. Года через два после того, как мы поженились, я повез туда Беатрис в надежде привлечь ее интерес к общим свойствам порфиров, гранитов, гнейсов, кварцев и слюдяных сланцев, засыпавших берег. Увы, тут вмешалось злополучное ракообразное, которое, она уверяла, цапнуло ее за лодыжку, хоть я не обнаружил ни малейшей отметины. Итог — мы тотчас повернули домой и всю дорогу молчали.
Не успел Джордж снова отбыть к своим ужасным обязанностям, явилась Миртл и попросила, чтобы я помог ей лечить пони. Уверен, это Джордж ее на меня напустил. Рана у животного несерьезная; многие лошади в куда худшем положении, да и люди, если на то пошло.
Миртл — интереснейший субъект в рассуждении того, что важней, судьба или случай. Слишком тут много разных «если бы». Если бы к ней не привязалась Беатрис, разве не исчезла бы она в сиротском приюте? И если бы злополучная проделка Помпи Джонса не положила конец надеждам Энни на материнство? И не встань старая миссис Харди в то утро с левой ноги, разве послали бы Миртл в город с Джорджем? И потом: ведь он вернулся в Ежевичный проулок не обычной своей дорогой. Вдруг бы вопли той бабы отдались в другой улице, неуслышанные, что тогда? Или бы мистер Харди залег в своей синей комнате с насморком...
А быть может, случай с судьбою взаимосвязаны и последняя не могла бы исполниться, не вмешайся первый. Шероховатой скале, стоящей далеко от прибоя, вовеки не сделаться гладкой.
— Миртл, — приступился я, — ты полюбила Джорджа с самого детства, не так ли?
— Так, — сказала она.
— Но почему?
— А вы почему полюбили Беатрис? — возразила она и, бросив мне чуть насмешливый взгляд, прибавила: — Она часто с вами строга. Я видела раз, она вам пощечину влепила.
— Я достиг возраста, когда мужчине пора жениться. И к тому же, быть может, в моей природе — извлекать удовольствие от того, что со мной обращаются дурно.
— Но не в моей, — сказала она и велела мне плотней держать за шею Крутого, пока она протирала ему бок мокрой тряпкой.
— Он хорош собой, — рассуждал я. — Но ведь ребенок редко замечает такие вещи.
— Почему же? — вскинулась она. — Да нет, дети даже скорей замечают красоту, чем взрослые. Их не ослепляет предубежденье.
— Замечают, да, — согласился я. — Но не воспринимают.
— Чушь, — сказала она, и уголки губ у нее опустились.
— К тому же, — продолжал я, — я не замечал, чтобы Джордж выказывал к тебе особенный интерес. Не больше, чем все мы, во всяком случае... когда ты уже вышла из лепечущего возраста.
— Он и не выказывал, — она сказала. — Никогда, лишь однажды, но мне и того довольно.
Я потребовал объяснений, но она на меня смотрела с вызовом. У нее сильное лицо, глаза глубоко посаженные, твердые. Несколько недель тому назад она остригла волосы, спасаясь от вшей, и, если бы не платье, теперь могла сойти за мальчика.
И тут-то я вышел из себя, я обозвал ее грубиянкой. Я был несправедлив. Сердиться следовало не на нее, на Джорджа. Она стояла — тряпка в руке, — от вызова не осталось и помину, и какие-то особенно грустные стали у нее глаза. О Господи, подумал я, как же мы виноваты перед бедной девочкой. Когда б не случай, быть бы ей горничной или добродетельной супругой честного рабочего.
В тот вечер я с превеликим удовольствием сопровождал Джорджа в гости к некоему капитану Джерому. Тетушка его прислала корзину гостинцев, и, благодарный Джорджу за исцеление от кишечных мук, он пожелал щедро поделиться своим богатством. Миртл не пригласили. Она осталась в обществе почтенной особы, муж и сын которой оба были в Легкой бригаде. Сочли, что пригласить одну даму, не приглашая вторую, неучтиво, да вдобавок на каждого пришлось бы меньше еды.
Итак, к нам присоединились двое господ: капитан Фрамптон из 57-го и юный лейтенантик по фамилии Гормсби, участвовавший в стычке при Альме[21]. Последний мне показался чрезвычайно нервным субъектом, совершенно пришибленным; он едва удерживал вилку в трясущейся руке и дважды расплескал вино.
Капитану посчастливилось, он жил в четырех стенах разрушенного трехэтажного дома, примерно в четверти мили от лагеря. Правда, окна были выбиты и повсюду стояли ведра, ибо дождь натекал сквозь дырчатую крышу, зато ужинали мы за настоящим, пусть шатким, столом и стул подо мною сохранил существенную часть своей обивки.
Говорили только о войне, о том, в частности, как Первая дивизия под командой герцога Кембриджского сперва не поддержала Легкую бригаду. Очевидно, из-за неопытности герцога. Зато — после опасной проволочки — гренадеры и гвардейская пехота наконец соединились и дружно погнали русских.
Я сидел и молчал. С чего бы мне ввязываться в разговор? От всех этих бригад, дивизий и полков у меня решительно заходит ум за разум. Главным образом, не мог я внести свою лепту и в обсуждение того, как секли на днях упившегося на посту стрелка. Ему было положено семьдесят плетей, но он рухнул после пятидесяти, и потом обнаружилось, что в спине у него засел осколок ядра после встречи с неприятелем накануне. Джордж его осмотрел и сказал, что, скорей всего, он выживет, но сильно поврежденный в уме и немощный телом. Я пытался отвлечься, я воображал в свечном пламени Беатрис, она поджимала губы, осуждая мою манеру разгребать еду на тарелке. Сиди она рядышком, уж непременно бы цапнула себе кусочек, в особенности если бы подавали Эннин пудинг с коринкой.
Мне полегчало, правда ненадолго, когда капитан Джером завел речь о вероятиях нашего возвращения домой к Рождеству. Оставя в Ирландии дом и обширные конюшни, он тосковал по своим коням. Проклятый осел — его собственная оценка, — он доволок одного из самых любимых скакунов, Дьяболо, до самой до Керкинитской бухты, а там тот заболел и погиб. Неизвестно отчего; да и как столь тонкое, холеное и совершенное создание может выжить в подобных условиях? Он живо ощутил утрату и час целый, если не больше, стоял на берегу, глядя, как любимый коник уплывает в море. Он рассчитывал, что непременно встретится с этой дивной животиной в лучшем мире, хотя от души надеялся, что встреча отсрочится на несколько годков. Я пробовал слушать эту белиберду с приличествующей растроганностью, но не выдержал. Не выношу подобного сюсюканья.
— Платон, — вмешался я, — считает мир четвероногих как бы ухудшенным вариантом человечества, и чрезвычайно грубым притом.
Едва эти слова слетели с моих уст, я в них раскаялся: лицо Джерома не предвещало добра. Спас меня юный Гормсби; до той поры молчавший, он выпалил:
— Нет более грубого скота, чем человек.
Джером вертел стакан с совершенно невозможным видом. Капитан Фрамптон, давно свалившийся под стол, издал протяжный, томный вздох. Снаружи густой пушечный гул падал с высоты и перекатывался в ночи. Внутри плюх-плюх-плюхались в ведра дождевые капли.