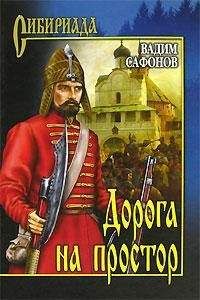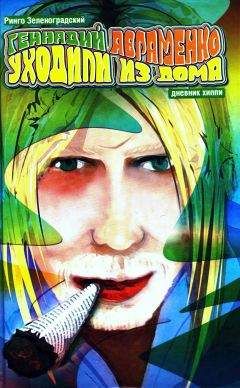Воевода чувствовал внезапную слабость в теле, и лоб у него покрывался испариной. Собеседник ухмылялся на воеводино смятение.
– Да ты чего, князь? Люди-те свои. Тебе-то все едино, будь хоть сатана из пекла. До тебя и в год не доскачешь…
Тогда, отеревшись рукавом, воевода шептал:
– От обычаев прадедов отступился… Камизольщиков полна Москва… Аглицкий царь!.. У нас душой отдохнешь, боярин.
Еще раз оглядевшись и убедившись, что они одни, приезжий, однако, тоже понижал голос до шепота. Слышалось:
– Коль в одиночку… один конец… По дереву – так и весь лес недолго…
Воевода кивал:
– Соборне надо. Соборне…Казаки несли свою службу в Усолье.
Разбившись на отряды, они караулили страну.
Она лежала чащами и взгорьями, болотами и каменными грядами, огромная и пустынная, вдоль пустынных рек. Лось, фыркая, сбрасывая с отростка рога застрявшую ветку, несся папоротниками к скрытому водопою, эхо повторяло дробный стук его копыт. Желтая вода сочилась в медвежий след, похожий на человечью ногу. Пожар красной ягоды охватывал в августе поляны. Стервятники кружились над тем местом, где валялся павший зверь, расклеванный, ободранный до кости голодными зубами.
Среди лесов катились быстрые реки.
Ночами обступал человечье жилье, волчий вой.
У околиц слободок валили деревья, корчевали и жгли вековые пни. Бурелом занимался от палов. Он горел, как порох, с треском и пальбой, листва никла и скручивалась, горький дым, медленно вращаясь, восходил между березами. И солнце висело в мертвенных венцах на тусклом, померкшем небе.
Тогда в непролазной глуши из своего жилья, похожего на трухлявый пень, выходил вогул. Он тянул носом гарь, нахлобучивал шапчонку из бересты и брел медвежьими лазами, под бородами лишаев на столетней коре, в еще более глухую дичь, где в медной воде шевелились черные пиявки. Брел, согнувшись, его одежда словно поросла мохом.
Шли месяцы.
Угрюмо надвинулась осень и мочила дождями, и по черным ночам завывала в логах, пока не улеглась зима.
Светлые, узорно разубранные, окованные, лежали камские места под низким солнцем короткого дня. И, отряхнув белый прах с пимов, потирая лица в дымном избяном тепле, говорил народ: "Старик шутник на улице стоять не велит, за нос домой тянет".
Миновала и долгая зима. Побурел в ямах последний снег, весна зеленым пламенем пробежала по клейкой глине обрывов.
Девушки с венками на головах собирались на лугу, расплетали косы, пели, плясали и пускали венки по воде.
И опять жар подымался от земли. В сумерках волки подходили к варницам и лизали соль.
Стояли белые ночи.
К концу лета лилово зацветал высокий узколистый Иван-чай. По утрам обкатывали росы.
Год завершал свой круг.
Гаврила Ильин летом ездил с казачьей станицей на север. Отъехал от станицы и взял путь прямиком – все ополночь. Увидел мочажины, и выворотни, и лесные кладбища – пеньки. Крошечные булавы кольчатой мышиной травы торчали на болоте. Открылась гора, вовсе черная, как из печной сажи. Внизу сгрудились избы – ворота их были с кровельками, как в шапочках, наличники резные, расписные ставеньки, островерхие крыши с венцом. Коза блеяла из подворотни, высовывая бледно-розовый язык.
Ильин постучал в избу. Хозяева были хмурые. Но угостили сытно. Вечер долго не угасал. Казак вышел на улицу. Конь его жевал под навесом хрусткую траву с жесткими болотными резунцами. На топкой елани молча, без песен, плясали парни и девушки. Только слышалось чавканье ног в грязи, короткий смех, негромкие голоса. Казак постоял, поглядел, его будто не замечали, он вернулся в избу.
Хозяин тоже не спал. Он вращал при светце тяжелое точило. И диковинные камни были разложены кругом. По одному бежали багряные и молочные жилки и складывались так, точно ладья ныряла посреди ледяных глыб. Был камень кровавик. Камень волосатик. Был камень орлец. Были камни, полные дыму. И тусклое солнце сияло внутри как бы застывшей водяной капли. В притолоку стукнули. Вошел сосед. Согнувшись, он долго рассматривал на светец то, что обтачивал хозяин.
– Вода текет? – спросил хозяин. Тот утвердительно хмыкнул. – А искра… Куда искра?..
– Тепла добавь, – решил сосед. – Поточи. Дай радость.
– Погодь, как полну-то силу отворю, – с суровым торжеством ответил хозяин.
Радуга, чуть поблекшая, цвела в руке высокого мужика.
– Злат цвет! – сказал Ильин.
И хозяин поднял на него тяжкий неприветный глаз.
– На себя накликай. Цвел да отцвел. Я не видел, и ты не видел, чур меня. Каменная Матка одна видела…
Ночь не надолго смежила глаза – и вот уже "белая кошка пялится в окошко". Хозяин с подожком-щупом, мешком да лопатой зашагал из избы. Он долго заглядывал в ямицу на боку горы, как в глядельце. Казак поднялся на гору. И оттуда, на краю неба, он увидел раздвоенное облако. Было оно прозрачно, и сине, и огромно высилось надо всем.
– То что, дед? – спросил он у старика, дремавшего на солнышке.
– Камень-горы! – ответил старик.
– Далеко ль?
– Пряма дорога. Сам гляди. Он тихой, путь-то по нашим местам.
Но зыбко туманилась даль за черными дорогами. Туманами здесь называли еще озера…
Ильин заторопился из узорчатой деревни угрюмых людей. Но навсегда запомнил он то облако, которое было дальше всего, за самой дальней далью, и все-таки нависало исполински надо всем… Он не умел рассказать об этом и, вернувшись на Чусовую, только про одно сказал казакам: про черную гору и каменные цвета в ней.
– А слышь, ребятушки… Нам бы клады те, – у шепелявого мелколицего казака Селиверста загорелись глаза. – И не хаживать бы отселева никуды!.. Бурнашка Баглай ответил:
– Сребра хочешь аль злата? Научу тебя, слышь. Змеин след примечай. Есть крылат змей. Проползет – гора донизу расселась. Дна нету, и ухает там, бабьим причетом причитает. Улетел, значит, а хозяйку поставил, девку, гору-красу беречь… Там ищи!
И опять воронье, садясь тучей, отряхивало листву с берез. Под слепым осенним небом, собравшись кругом, казаки затевали песню:
Эх, да дороженька тырновая-я, Эх, да с Волги-реки!..
Но ветер хлестал сырые камские песни, скудно тлели лучины в низких срубах, бородачи, погорбясь, сумрачно слушали песню, – лица их казались земляными, опущенные узлистые руки – как корни… И гасла песня.
Скудная шла жизнь на строгановских хлебах, зряшная жизнь без обещанного прощения вин, без чаемых несказанных богатств, без своей воли. Со злой тоски иные, захватив кулек пищи и лодчонку-душегубку, – кто с оружием, а кто и так, – убегали тайком, по последней воде, искать дороги на веселую Русь, на Волгу. И вода смывала их след.
Другие осели тут, на Каме, поманили их блудящие огоньки кладов и тоскливая бабья песня. И охолопились казаки.
Гаврила Ильин приручил трех ласок. Они бегали по нему, когда он спал, обнюхивая ему волосы и уши крошечными злыми мордочками. Под утро они сами забирались в кошель.
– Когда же через горы, батька?
– Чем потчуешь, атаман? Землю боярскую пахал. Каты рвали тело мое. Ты гляди, ты гляди-тко! На вольной Волге остался – вон каким стал. И опять – к тебе ушел. Тебя догонять…
Филька Рваная Ноздря выпрямился на искалеченных своих ногах, но были скривлены они в коленях, и оттого стал он ниже ростом, и странным казалось теперь большое, плотное четырехугольное туловище его.
– Все отдал, тело и душу, всю жизнь мою не пожалел за вольную волю. Николи не поклонюсь барам и боярам. Ты скажи, скажи прямо. Я не побоюсь. Я камень за пазуху да в Каму головой…
И Кольцо:
– Казаки мы? Ответь! Сожжем хоромы, серебро и соболей – в тороки, уйдем на Яик!..
Сурово ответил Ермак:
– Жди.
Так и эти, и другие, самые близкие атаману, не добились ничего. Только зубы обломали о жерновой камень, ибо "ермак" на языке волгарей значило не только таган, но еще ручной жернов. А по-татарски означало то еще протока, – куда ж текла теперь по ней вода?
Он сказал Кольцу:
– Казаки ли, пытаешь? Вот тебя с сего дня набольшим атаманом и ставлю. За меня. Помни ж. Пока сам по стругам не кликну, для всех нет в войске главней тебя.
Приезжал Никита Григорьевич, спросил о том, о сем, под конец настойчиво и нетерпеливо сказал:
– Что не видно тебя? Заходи, покалякаем.
А в хоромах в упор повел речь, что давно пора в Сибирь.
– Ржет воронко перед загородкой – подает голосок на иной городок, – сказал он пословицей.
– Орел еще крыл не расправил, – ответил Ермак.
– Пока расправит, как бы его вороны не заклевали. Да и не обучен я птичьему языку, – криво усмехнулся Никита Григорьевич.
На еланках бурели полоски сжатых хлебов. Дожинали позднюю рожь. Котин, тихий казак, садился на обмежки во ржах – высоко подымались колосья и клонились, согласно шурша. Осторожно пригибая стебель, он оглаживал два золотых рядка с прямым чубом на конце. То была Русь.
Они давали имена здешним безыменным ярам и холмам: Азов-гора, Думная гора, Казачья… Уже начиналось баловство: заметив путников с одной горки, сообщали знаком на вторую; пропустив, брали потом "с кички" и "с кормы", чтоб было все, как на Волге. А кто были их жертвами? Лесные охотнички, о ком некому порадеть! И называли казаки это самовольство на строгановской земле именем того, кто привел их сюда, на службу купцам. Пошли ермачить, – говорили, уходя в лес: так высоко навсегда стала в их умах прежняя грозная слава атамана. И это словцо, и названья гор, перенесенные за тысячи верст со светлого юга казачьей тоской, жили потом еще века и дожили иные до наших дней…