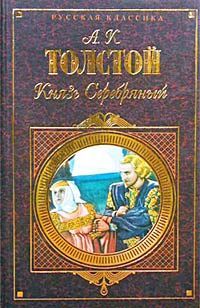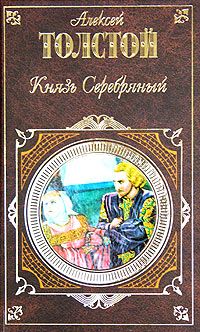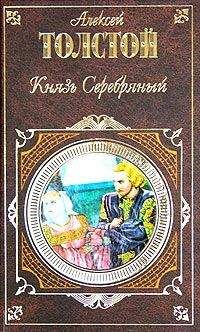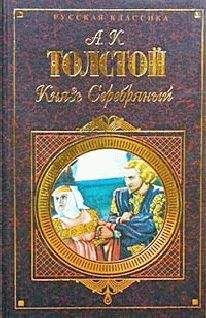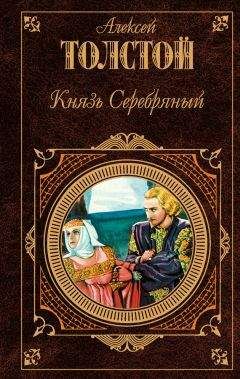Старуха вышла, шаркая ногами и стуча клюкой.
Иоанн был бледен. Малюта не говорил ни слова. Молчание продолжалось довольно долго.
— Что ж, Лукьяныч, — сказал наконец царь, — винятся Колычевы?
— Нет еще, государь. Да уж повинятся, у меня не откашляются!
Иоанн вошел в подробности допроса. Разговор о Колычевых дал его мыслям другое направление.
Ему показалось, что он может заснуть. Отослав Малюту, он лег на постель и забылся.
Его разбудил как будто внезапный толчок.
Изба слабо освещалась образными лампадами. Луч месяца, проникая сквозь низкое окно, играл на расписанных изразцах лежанки. За лежанкой кричал сверчок. Мышь грызла где-то дерево.
Среди этой тишины Ивану Васильевичу опять сделалось страшно.
Вдруг ему почудилось, что приподымается половица и смотрит из-под нее отравленный боярин.
Такие видения случались с Иоанном нередко. Он приписывал их адскому мороченью. Чтобы прогнать призрак, он перекрестился.
Но призрак не исчез, как то случалось прежде. Мертвый боярин продолжал смотреть на него исподлобья. Глаза старика были так же навыкате, лицо так же сине, как за обедом, когда он выпил присланную Иоанном чашу.
«Опять наваждение! — подумал царь, — но не поддамся я прелести сатанинской, сокрушу хитрость дьявольскую. Да воскреснет бог и да расточатся врази его!»
Мертвец медленно вытянулся из-под полу и приблизился к Иоанну.
Царь хотел закричать, но не мог. В ушах его страшно звенело.
Мертвец наклонился перед Иоанном.
— Здрав буди, Иване! — произнес глухой нечеловеческий голос, — се кланяюся тебе, иже погубил еси мя безвинно!
Слова эти отозвались в самой глубине души Иоанна. Он не знал, от призрака ли их слышит или собственная его мысль выразилась ощутительным для уха звуком.
Но вот приподнялась другая половица; из-под нее показалось лицо окольничего Данилы Адашева, казненного Иоанном четыре года тому назад.
Адашев также вытянулся из-под полу, поклонился царю и сказал:
— Здрав буди, Иване, се кланяюся тебе, иже казнил еси мя безвинно!
За Адашевым явилась боярыня Мария, казненная вместе с детьми. Она поднялась из-под полу с пятью сыновьями. Все поклонились царю, и каждый сказал:
— Здрав буди, Иване! се кланяюся тебе!
Потом показались князь Курлятев, князь Оболенский, Никита Шереметьев и другие казненные или убитые Иоанном.
Изба наполнилась мертвецами. Все они низко кланялись царю, все говорили:
— Здрав буди, здрав буди, Иване, се кланяемся тебе!
Вот поднялись монахи, старцы, инокини, все в черных ризах, все бледные и кровавые.
Вот показались воины, бывшие с царем под Казанью.
На них зияли страшные раны, но не в бою добытые, а нанесенные палачами.
Вот явились девы в растерзанной одежде и молодые жены с грудными младенцами. Дети протягивали к Иоанну окровавленные ручонки и лепетали:
— Здрав буди, здрав буди, Иване, иже погубил еси нас безвинно!
Изба все более наполнялась призраками. Царь не мог уже различать воображение от действительности.
Слова призраков повторялись стократными отголосками. Отходные молитвы и панихидное пение в то же время раздавались над самыми ушами Иоанна. Волосы его стояли дыбом.
— Именем бога живого, — произнес он, — если вы бесы, насланные вражьею силою, — сгиньте! Если вы вправду души казненных мною — дожидайтесь Страшного суда божия! Господь меня с вами рассудит!
Взвыли мертвецы и закружились вокруг Иоанна, как осенние листья, гонимые вихрем. Жалобнее раздалось панихидное пение, дождь опять застучал в окно, и среди шума ветра царю послышались как будто звуки труб и голос, взывающий:
— Иване, Иване! на суд, на суд!
Царь громко вскрикнул. Спальники вбежали из соседних покоев в опочивальню.
— Вставайте! — закричал царь, — кто спит теперь! Настал последний день, настал последний час! Все в церковь! Все за мною!
Царедворцы засуетились. Раздался благовест. Только что уснувшие опричники услышали знакомый звон, вскочили с полатей и спешили одеться.
Многие из них пировали у Вяземского. Они сидели за кубками и пели удалые песни. Услышав звон, они вскочили и надели черные рясы поверх богатых кафтанов, а головы накрыли высокими шлыками[90].
Вся Слобода пришла в движение. Церковь божией матери ярко осветилась. Встревоженные жители бросились к воротам и увидели множество огней, блуждающих во дворце из покоя в покой. Потом огни образовали длинную цепь, и шествие потянулось змеею по наружным переходам, соединявшим дворец со храмом божиим.
Все опричники, одетые однолично в шлыки и черные рясы, несли смоляные светочи. Блеск их чудно играл на резных столбах и на стенных украшениях. Ветер раздувал рясы, а лунный свет вместе с огнем отражался на золоте, жемчуге и дорогих каменьях.
Впереди шел царь, одетый иноком, бил себя в грудь и взывал, громко рыдая:
— Боже, помилуй мя, грешного! Помилуй мя, смрадного пса! Помилуй мою скверную голову! Упокой, господи, души побитых мною безвинно!
У преддверия храма Иоанн упал в изнеможении.
Светочи озарили старуху, сидевшую на ступенях. Она протянула к царю дрожащую руку.
— Встань, батюшка! — сказала Онуфревна, — я помогу тебе. Давно я жду тебя. Войдем, Ваня, помолимся вместе!
Двое опричников подняли царя под руки. Он вошел в церковь.
Новые шествия, также в черных рясах, также в высоких шлыках, спешили по улицам с зажженными светочами. Храмовые врата поглощали все новых и новых опричников, и исполинские лики святых смотрели на них, негодуя, с высоты стен и глав церковных.
Среди ночи, дотоле безмолвной, раздалось пение нескольких сот голосов, и далеко слышны были звон колокольный и протяжные псалмы.
Узники в темницах вскочили, гремя цепями, и стали прислушиваться.
— Это царь заутреню служит! — сказали они. — Умягчи, боже, его сердце, вложи милость в душу его!
Маленькие дети в слободских домах, спавшие близ матерей, проснулись в испуге и подняли плач.
Иная мать долго не могла унять своего ребенка.
— Молчи! — говорила она наконец, — молчи, не то Малюта услышит!
И при имени Малюты ребенок переставал плакать, в испуге прижимался к матери, и среди ночного безмолвия раздавались опять лишь псалмы опричников да беспрерывный звон колокольный.
Солнце взошло, но не радостное утро настало для Малюты. Возвратясь домой, он не нашел сына и догадался, что Максим навсегда бросил Слободу. Велика была ярость Григорья Лукьяныча.
Во все концы поскакала погоня. Конюхов, проспавших отъезд Максима, Малюта велел тотчас вкинуть в темницу.
Нахмуря брови, стиснув зубы, ехал он по улице и раздумывал, доложить ли царю или скрыть от него бегство Максима.
Конский топот и веселая молвь послышались за его спиною. Малюта оглянулся. Царевич с Басмановым и толпою молодых удальцов возвращался с утренней прогулки. Рыхлая земля размокла от дождя, кони ступали в грязи по самые бабки. Завидев Малюту, царевич пустил своего аргамака вскачь и обрызгал грязью Григорья Лукьяновича.
— Кланяюсь тебе земно, боярин Малюта! — сказал царевич, останавливая коня. — Встретили мы тотчас твою погоню. Видно, Максиму солоно пришлось, что он от тебя тягу дал. Али ты, может, сам послал его к Москве за боярскою шапкой, да потом раздумал?
И царевич захохотал.
Малюта, по обычаю, слез с коня. Стоя с обнаженною головой, он всею ладонью стирал грязь с лица своего. Казалось, ядовитые глаза его хотели пронзить царевича.
— Да что он грязь-то стирает? — заметил Басманов, желая подслужиться царевичу, — добро, на ком другом, а на нем не заметно!
Басманов говорил вполголоса, но Скуратов его услышал. Когда вся толпа, смеясь и разговаривая, ускакала за царевичем, он надел шапку, влез опять на коня и шагом поехал ко дворцу.
«Добро! — думал он про себя, — дайте срок, государи, дайте срок!» И побледневшие губы его кривились в улыбку, и в сердце, уже раздраженном сыновним побегом, медленно созревало надежное мщение неосторожным оскорбителям.
Когда Малюта вошел во дворец, Иван Васильевич сидел один в своем покое. Лицо его было бледно, глаза горели. Черную рясу заменил он желтым становым кафтаном, стеганным полосами и подбитым голубою бахтой. Восемь шелковых завязок с длинными кистями висели вдоль разреза. Посох и колпак, украшенный большим изумрудом, лежали перед царем на столе. Ночные видения, беспрерывная молитва, отсутствие сна не истощили сил Иоанновых, но лишь привели его в высшую степень раздражительности. Все испытанное ночью опять представилось ему обмороченьем дьявола. Царь стыдился своего страха.
«Враг имени Христова, — думал он, — упорно перечит мне и помогает моим злодеям. Но не дам ему надо мною тешиться! Не устрашуся его наваждений! Покажу ему, что не по плечу он себе борца нашел!»
И решился царь карать по-прежнему изменников и предавать смерти злодеев своих, хотя были б их тысячи.