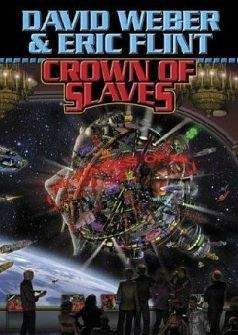— Может быть, — задумчиво кивали осторожные старейшины.
— Ведь вы ненавидите Асандра, не так ли?
— Может быть.
— Вы поможете Скрибонию, если он поднимет против Асандра восстание?
Скифы, прежде чем ответить, долго смотрели вдаль, на холмистую степь. Перед ними, желто-голубой, неясный в дрожащей мгле испарений, расстилался Скалистый полуостров — знойный, голый, засушливый, весь в редких колючках, пятнах чахлой полыни, пестрый от бесчисленных соленых озер и грязевых сопок, богатый железом, нефтью, серой, известняком, но главное — жирной, баснословно плодородной черноземной почвой, дающей в хороший год урожай сам-тридцать.
Добрая земля. Благодатный край. Теперь здесь хозяйничают эллины. А скифы, которым полуостров, принадлежал раньше, приходится трудиться на собственной земле для чужих людей. Странно, почему, чтобы вновь овладеть своей страной, нужно помогать какому-то греку Скрибонию? Нельзя ли обойтись и без Асандра, и без Скрибония, и без всяких прочих царей?
И старейшины мрачно цедили сквозь крепко стиснутые зубы:
— Может быть…
Душный вечер.
Сын Раматавы опять уселся у окна.
Поликрат и Фаон играли в кости, но без обычного шума и задора. Их огорчил отказ дочери Ламаха. Собственно, пантикапейцам было наплевать на Ореста и Гикию — не согласна так не согласна. Их беспокоило другое: как и что они ответят свирепому Асандру, когда вернутся домой.
Фаон — ладно скроенный, смазливый малый, большой любитель и знаток женщин, кинул вдруг изучающий взгляд на задумавшегося Ореста и шепнул Поликрату с укоризной:
— И на кой бес ты нацепил ему утром дурацкий платок?
— Обычай, — вздохнул Поликрат. — Жених не должен показывать свой облик прежде времени. Вообще-то Оресту полагалось сидеть пока на корабле. Но он попросился на берег… ну, я и завязал ему лицо.
— Плевать на обычай! — воскликнул повеселевший Фаон. Видимо, он что-то сообразил. — Не унывай, приятель. Гикия у нас в руках. Даю печень на растерзание орлу — стоит только красавчику Оресту объявиться перед дочерью Ламаха, как она тут же бросится ему на шею. Или я ничего не понимаю в женщинах. Дело не только в красоте. Он страдалец и все такое… Тонкое дело. Надо завтра устроить так, чтоб она увидела его рожу. И Гикия от нас не уйдет.
— Хо! — обрадовался Поликрат. — Это ты хорошо придумал, молодчина. Ну, держись, упрямая девчонка…
Раб принес ужин. Боспоряне, развалившись на циновке, предались в лучах бронзовых светильников чревоугодию.
Чтобы рассеять угнетавшую их тревогу, они совершили обильные возлияния перебродившим виноградным соком, причем Орест, весьма опытный в этом деле, хватил сразу полкувшина вина — хватил по-скифски, не разбавляя, как положено по обычаю греков, напитка водой.
Поликрат и Фаон, чувствуя полную свободу и отсутствие надзора со стороны Асандра, последовали благотворному примеру его наследника. Их быстро развезло, и они захрапели, уронив головы на циновку.
Оресту не хватало воздуха в тесной комнате.
Метис поднялся, наполнил вином глиняную флягу, которую всегда носил на поясе, перешагнул через поверженные тела пантикапейцев и, покачиваясь, выбрался во двор. Днем он приметил возле бассейна укромную скамейку. Тут можно было сидеть, оставаясь невидимым для чужих глаз. Раздвинув кусты сирени, роз и шиповника, Орест добрался до уютного уголка и облегченно вздохнул.
Густую, прохладную синеву неба проткнули золотые стрелы звезд.
На юге ярко загорелся Юпитер.
Цепляясь за черные силуэты ветвей, кверху выкатился зеркальный щит полной луны. Луна заглянула сквозь разрывы среди ветвей прямо в убежище Ореста. Стало так светло, что боспорянин отчетливо рассмотрел на ладони каждую линию.
Кто-то ходил по двору. У служебных помещений слышался говор невольников. Два или три раза совсем недалеко от Ореста женщина с плеском набирала из бассейна воду. Но царского сына никто не видел, а сам он, конечно, не подавал голоса.
Духота рассеялась. От прохлады, веющей с моря, Орест постепенно отрезвел. И тут-то он осознал себя, свой путь.
…Жена.
Нет, она не станет его женой. Отказалась.
Человек самолюбивый, гордый воспринял бы отказ как оскорбление. Сцепив зубы, он перетерпел бы несколько тяжких мгновений позора, затем отвернулся бы с холодностью, пусть притворной. Или попытался бы отомстить.
Но грустно-веселый Орест… Он пропал. Ведь Гикия оставалась единственной надеждой. Хотел выкарабкаться из темной ямы к солнцу — не удалось.
Мечта о дочери Ламаха — если можно назвать мечтой смутные, расплывчатые мысли и чувства, родившиеся в Оресте по дороге в Херсонес, — была как бы последней вспышкой догорающего, залитого водой (точнее — вином) древесного уголька. И вот она погасла, та искра — должно быть, безвозвратно, потому что на эту вспышку Орест израсходовал весь скудный запас еще сохранившихся у него душевных сил.
Из глаз Ореста вытекло по одной слезинке. Все. Больше ему не придется плакать. Никогда. Для чего родился? Для чего жил? Если б судьба сложилась по-другому, из него получился бы, может, неплохой человек.
Но все перепуталось. Что дальше? Прозябать — но зачем? Для чего жить, а если от тебя нет пользы ни земле, ни людям, обитающим на ней?
К чему напрасно истреблять хлеб, который с таким трудом выращивает земледелец? Лучше умереть, чем существовать, навлекая на свою голову презрение окружающих.
Орест вынул из ножен узкий длинный кинжал и посмотрел на мерцающее лезвие. Удар — и всему конец.
Метис представил себе, как найдут его утром, окровавленного, среди этих кустов, и содрогнулся.
Нет!
Даже на самоубийство не хватало воли сыну Асандра. Она умерла под истрихидой, задохнулась в грязных руках предателя, погасла под ногами неверной Ойнанфы, расплескалась брызгами вина за семь лет бездомных скитаний.
Орест швырнул кинжал в кусты — туда, в темноту, чтобы не видеть, чтоб не искушало сверкающее в лучах месяца холодное лезвие!
Он презирал себя.
Гнусное существо, которым был он сам, вызывало у него ненависть и отвращение. Но что несчастный мог тут поделать? Э! Орест махнул рукой на все, отстегнул от пояса флягу, вынул пробку и отчаянно припал к горлышку сосуда.
Истина — здесь, в этой фляге.
Остальное — прах и суета.
…Не приходил сон.
Дурные мысли упрямо лезли в голову.
Гикия хваталась за лоб, стараясь успокоиться, но в комнате было душно, и Гикия боялась за свой рассудок.
Она с раздражением сбросила горячие покрывала. Но и это не помогло.
— Клеариста? Намочи полотенце холодной водой, подай мне, — крикнула Гикия служанке.
Служанка обложила ей голову мокрой тканью. На некоторое время стало как-будто легче. Но затем болезненно напряженное воображение нарисовало жуткую картину: Гикия простудила мозг и умерла…
Женщина резко отбросила полотенце. Покойный рыботорговец. Дион из Керкинитиды, Орест, сын Асандра — все мелькали перед ней, меняясь, переплетаясь и сочетаясь в невозможных внешних очертаниях.
— Не могу! — застонала Гикия.
Она поднялась, чувствуя тяжесть в голове и слабость во всем теле, завернулась в мягкое покрывало и босиком, еле переступая, вышла во двор.
Тихо. Дремлет у ворот страж. Свет луны — такой яркий, что можно читать, — заливает половину двора. На другой половине и под кустами у бассейна — сумрак, чернота. От ночного ветерка чуть слышно шелестит мелкая, но густо разросшаяся листва.
Гикия бессознательно направилась к бассейну. Там, на скамейке, дочь архонта не раз думала про любовь, счастье, верность… Тайник среди роз бережно укрывал Гикию в трудные мгновения, сонный шорох ветвей, отвлекая молодую женщину от всего подлинно существующего, навевал на сердце мир и покой.
Поклонение херсонеситов таврской Деве, слившейся с образом ночной охотницы Артемиды, секретные обряды женщин, зависящие от ежемесячного возобновления луны, смутные мечты, неясные желания, беспричинные слезы, глухая тоска, неизбытая нежность — все непонятным образом связывало Гикию с луной — зеркальной Селеной.
Она не помнила мать и поверяла в своих одиноких раздумьях мысли и чувства Селене. И та, всегда ясная и приветливая, с доброй улыбкой выслушивала жалобы маленькой женщины.
И постепенно в сознании херсонеситки укрепилась полусерьезная уверенность, что она — тайная дочь Луны.
Гикия ладонью зачерпнула из бассейна воды, ополоснула лицо, вытерла полой одежды. Осторожно, чтобы не уколоться, отвела рукой ветви шиповника.
И отшатнулась.
На скамейке сидел, уткнув кулаки в голову, мужчина.
У ног — красный плащ. Гикия отпрянула назад. Она хотела убежать. Потом сообразила — бояться нечего. Это не вор, конечно. Ворам сюда не пробраться. Кто же тогда?
По тому, как понурился незнакомый человек, можно предположить — на душе у него не очень-то весело. Странно! Еще одно сердце томится в эту невозможную ночь. И как раз там, где любила посидеть и помолчать она, Гикия.