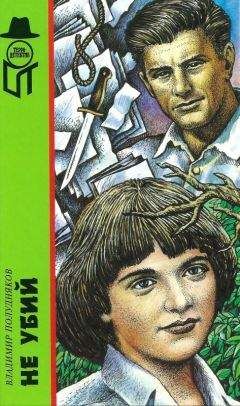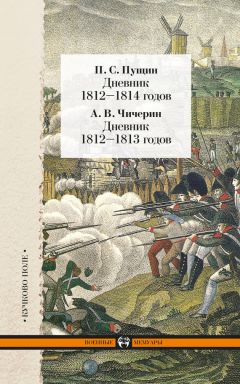Ноября 25. Сейчас только с кладбища: бедному Порошину последний долг отдал. После операции он и часа не выжил. Господа хирурги своей удачной операцией похваляются, да сердце, вишь, не выдержало. Ох, уж эти удачные операции! И сколько ведь таких непризнанных героев жизнь свою положили — кто под пулей, кто под пилой!
Бумага от штаба к Мамонову у меня уже в кармане. Моих двух донцов мне разрешено взять с собой. Ни одного лишнего часа не пробуду здесь, во Франкфурте…
Гейдельбергская бочка. — Сказание о вейнсбергских верных женах
* * *
Гейделъберг, ноября 27. Тут переночуем: и коням нашим, и самим нам передохнуть надо.
Места живописные: горы, леса дремучие; но все теперь снежным саваном покрыто и тоску смертельную усугубляет, — не глядел бы!
Прибыли мы сюда при закате солнца. Развалины замка на горном склоне в лучах зари вечерней огнем горели. Картина! Но взирал я на нее совсем равнодушно. Когда потом ужин себе подать велел да бутылку рейнвейна, пировавшие в той же столовой студенты за царя Александра тост мне предложили. Я с великим удовольствием, конечно, чокнулся с каждым; но на вопрос их: долго ль у них в Гейдельберге пробуду, отвечал, что на рассвете опять в путь-дорогу.
— Да вы, — говорят, — и наверх к замку нашему еще не поднимались?
— Издали, — говорю, — на него уже нагляделся.
— Но знаменитой бочки там не видели?
— Какой такой бочки?
— Неужто вы до сих пор о ней так и не слыхали? Ну, да вы ведь с того края света! Бочка единственная в своем роде на всем земном шаре: 283 тысячи бутылок в себе вмещает.
Много еще чего порассказали мне господа студенты и про замок, сожженный некогда французами, и про свой университет, старейший во всей Германии, и про обычаи свои студенческие, прелюбопытные, но в ином и ребячливые до глупости, но не искусили. Расспросил я их еще про маршрут свой через Гейльбронн на Лудвигсбург, где в последний раз мамоновцы неистовствовали, и пожелал им доброй ночи.
* * *
Село Вейнсберг, ноября 29. Берегом р. Неккар добрались мы до Гейльбронна без всяких приключений. Отогрелись и дальше двинулись. Проезжаем здешним селом, и тут-то вот, на постоялом дворе, такое нас приключение постигло, какого и во французских романах не вычитать.
— Смотрите-ка, ваше благородие, — говорит мне один из моих казаков, — какую на вывеске бочку намалевали!
И точно, бочка на диво: вся виноградными лозами обвитая, по лозам вверх карлики карабкаются, а внизу подпись:
«Zum s us sen heidelberger Fass».
Так вот она, знаменитая бочка!
— А что там подписано? — спрашивает опять казак.
— По-нашему, — говорю, — это значит: «Сладкая гейдельбергская бочка».
— Так как же нам, ваше благородие, такой сладости не испробовать?
Въезжаем во двор. У крыльца хозяин гостя провожает. Гость молодой, но тщедушный, в санях уже сидит, а хозяин, поперек себя толще, по руке его на прощание хлопает. Как узрели нас, в один голос вскрикнули:
— Козакен!
И лошадка гостя словно поняла это страшное слово, в сторону шарахнулась. Подъехал я и успокаиваю:
— Нам, г-н хозяин, — говорю, — вина бы только из той вон бочки отведать, что на вывеске у вас так заманчиво намалевана.
Глядит он мне в лицо, словно изучает; должно быть, не так уж страшен показался.
— Сейчас, — говорит, — к вашим услугам. И снова к молодому гостю повернулся:
— Так, стало быть, до вторника.
— А пастор противиться не станет? — спрашивает гость.
— Пастор? Да он у меня в этом вот кулаке.
— Ну, так до свиданья.
Прошел я с хозяином в дом, сбросил бурку, за стол уселся. В тепле с мороза голод пронял.
— Кстати, — говорю, — не накормите ли и обедом? Он за ухом почесывает.
— У нас, г-н офицер, — говорит, — для вашей милости настоящего обеда не найдется: не гостиница — постоялый двор. В Лудвигсбурге — так там две прекрасные гостиницы…
— Да вы, — говорю, — не сомневайтесь: за все заплачу.
И для наглядности из кошелька на стол золото свое высыпал. У толстяка от жадности глаза на лоб полезли.
— О, г-н барон!.. Ведь, ваша милость, верно, барон, а то, пожалуй, и граф или принц?
Меня смех разобрал. Но, не показывая виду, я, по примеру шутника Сени, хотел тоже раз над немчурой потешиться.
— Нет, — говорю, — не принц я, даже не граф, а просто-напросто барон.
— Но все-таки, значит, помещик?
— Да какой же барон не помещик? Поместье у меня, впрочем, не такое уж крупное; всего тридцать квадратных миль.
— Доннерветтер! Да у нас, в Германии, иное княжество в половину меньше. И рогатый скот, конечно, держите?
— Коров-то немного: полтораста голов. Зато овец тонкорунных три тысячи; а на конском ааводе сотня кровных рысаков и скакунов.
Не знаю, до чего бы я еще доврался, не оборви он полета моей фантазии зычным окриком:
— Лотте! Ханс! Саперлот! Куда вы опять запропастились?
Первою явилась Лотте, дочь хозяйская, лицом весьма приятная… уже по некоторому сходству с моей Иришей… Но губки у нее были надуты, глазки заплаканы.
— Ну, ну, ну, — прикрикнул на нее родитель. — Изготовь-ка сейчас для г-на барона яичницу с ветчиной. Да на погребе есть ведь еще никак бараньи котлеты?
— Есть… — прошептала девушка, глотая слезы.
— Так парочку тоже изжарь.
— И для казаков г-на барона?
— И для них тоже, понятное дело. Г-н барон за все чистым золотом заплатит. А Ханс где же? Ханс! Ханс!
Показался и Ханс, буфетчик, малый из себя тоже пригожий, но, как ночь, хмурый.
— Ты где пропадал? — напустился на него хозяин.
А Ханс, не огрызаясь, смиренно в ответ:
— Да вы же меня гоните?
— Завтра иди себе на все четыре стороны; силой держать тебя не стану. А сегодня ты у меня еще слуга И раб; что прикажу, то и делай. Понял? Изволь-ка спуститься в погреб за бутылкой гохгеймера 99-го года.
— Это для меня? — спрашиваю.
— Для вас, г-н барон, для вас. Разлив 99-го года! Фиалка, душистее фиалки!
Толстяк языком щелкнул и, как кот, которого за ушами защекотали, заплывшие глаза свои зажмурил.
— Коли так, — говорю, — так я попрошу уже вас, г-н хозяин, сделать мне компанию.
— С превеликим, — говорит он, — удовольствием! Но тогда, г-н барон, одной бутылки, пожалуй, не хватит? Значит, Ханс: две бутылки. Да постой, погоди! Ваши казаки, г-н барон, дорогого рейнвейна, полагаю, не оценят?
— Нет, они предпочли бы, я думаю, простого хлебного.
— Шнапсу? О! Того у нас хоть на целый полк. Слышишь, Ханс? Шнапсу казакам, сколько пожелают. Да и коням, смотри, овса задай и сена. Мы не поскупимся, так и г-н барон денег своих не пожалеет.
Хваленый гохгеймер и вправду тонким своим ароматом напоминал если и не фиалку, то цветущий клевер. Когда поспела яичница, одна бутылка была уже опорожнена, а вторая почата, благодаря, впрочем, не столько мне, сколько самому хозяину. Зато и язык у него развязался.
— Какого, — говорит, — я женишка-то для дочки подцепил! Первый мельник во всем околотке…
— Это не тот ли, — говорю, — которого вы давеча на дворе провожали?
— Он самый.
— Но любит ли его ваша дочка? На вид он, признаться, очень уж невзрачен, куда против Ханса. И дочке вашей Ханс, верно, милее?
— Мало ли что!
— Да разве он не расторопен, не честен?
— И расторопен, и честен. Но у Нидермейера в государственном банке капиталу сорок тысяч.
— А у вас самих сколько? Верно тоже довольно?
— Когда человеку бывает довольно!
— Да с немилым мужем она несчастна еще станет.
— Стерпится, слюбится. Наши вейнсбергские жены самые верные в целом мире. В церкви у нас есть про то и картина. Угодно, так я ее потом покажу г-ну барону.
— Да чем они доказали свою верность?
— А вот чем. Когда г-н барон подъезжал сюда, так заметил ведь на горе старый замок?
— Развалины замка? Как не заметить.
— Ну, вот, этот самый замок шесть веков назад осаждал император австрийский Конрад III. Туда от буйных его воинов спаслись все жители Вейнсберга. Когда тут припасы в замке были все съедены, и осажденным оставалось только помереть с голоду, к императору вышли оттуда женщины и умоляли выпустить их на волю. Император Конрад был хоть и жесток, но в то же время и настоящий рыцарь.
«— Сударыни! — сказал он им. — С женщинами я не воюю, а потому идите себе с Богом, да уж так и быть, берите с собой все, что вам дороже и что можете унести на своих плечах».
Он думал, конечно, что всего дороже им их наряды и что каждая свяжет их в узел и взвалит себе на плечи. Но вместо того они вынесли из замка на своих плечах собственных своих мужей. Такая супружеская верность тронула даже черствое сердце императора, и он выпустил на волю вместе с женами и их мужей. С тех самых пор замок наш так и называется «Вейбертрейэ».