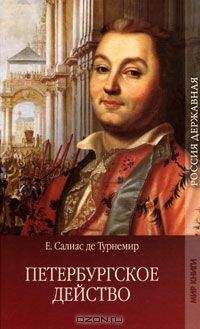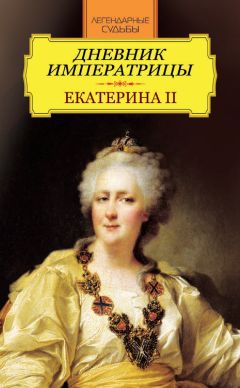— Скажи на милость! Ах, идол этакий, — воскликнул Тит. — А за это его на скотный двор! К коровам, мол, хочешь?
— То-то вот… Говорит он: "Заведём тройку управителей, я буду четвёртый и набольший. И буду я всё вершить. А ты, барынька, ни во что не вступайся. Кушай, гуляй да почивай на перине". А она, знамо дело, эдак-то не желает. Я, говорит, не старуха, хочу сама госпожой быть.
И Параскева вздохнула и задумалась.
— Ну, ну… Ещё-то что же? — спросили правнуки.
— Да много ещё… Все лезут, всякие себе должности просят по двору. А кто на волю просится зря. Кто денег просит в награжденье за старую службу… А она давала, и всё даёт, и много раздала… А всё не сыты! Всё лезут и ещё просят, больше… А сосед один, и важный такой, боярин и князь из немцев, грозится… Отдай ему целое угодье. А не хочешь, тягаться в суде учну, и оттягаю, и разорю.
— Ах, Господи! — шепнула Алёнка, не поняв слова "тягаться" и вообразив себе, что это значит душу из тела вытягивать.
— И то не всё, родные мои, — продолжала Параскева. — Всего и не запомню… Ну, просто, говорю, бедную касатку на части рвут. И грозятся! Этот самый дворецкий, что ли, написал эдакую бумагу и с ножом к горлу лезет, подпиши. А она-то, сердечная, боится.
— Избави Бог! — воскликнул Тит. — Это мне сказывал наш Кузьмич, князев дядька. Никакой, говорит, бумаги никогда не надо подписывать, кто грамотен. А кто неграмотен, и креста не ставь. Как подписал, так тебя и засудят.
— Ну, вот… Она и не хочет подписывать. А он, старый, говорит; "Тогда-де я дело в суде заведу, чтобы твой сынок был помешиком-душевладельцем, а ты бы отставлена была от делов". А сынок-то ещё махонький совсем.
— Как же так, бабуся? Такого закону нету.
— Да так вот… Вотчины, стало быть, не её самоё, а мужнины. Ну, сынок-то и наследник. А она, вдова, токмо покуда он махонький, распоряжаться может. Старый-то чёрт знает всякие законы и ходок. Стрекулист. Где ей, бедной, супротив его идти. Вот, стало быть, либо назначай его главным правителем, либо он в суд махнёт. Малолетку чтобы объявили помещиком, а её самоё побоку.
— Да, дела! — ахнул Тит.
— А ещё-то есть одна молоденькая барынька, что была в её товарках-приятельницах, теперь, обозлясь, поносит её везде и со всеми её подругами заодно… А ещё-то… Ещё… Да всего и не перескажешь. Уж так-то мне её жаль. Так-то жаль, что я на одно грешное дело из-за неё иду…
— Что ты, бабуся? Зачем?! — испугался Тит.
— Не бойсь… Дело такое… что только я свой грех знать буду. И грех для людей невелик, да мне-то самой тяжело.
Ввечеру, когда Тит ушёл, Параскева сказала внучке:
— Вот что, Алёнушка! Завтра барынька к нам придёт. И не одна, а с одной своей старой приятельницей. Надо нам светёлку нашу почистить, прибраться как следует, полы вымыть и всё эдакое… Она всё-таки, сдаётся мне, барыня важная, хоть и якшается попросту со мной, мужичкой.
Весь день и вечер старуха была задумчива. Старуху мучила мысль, что она сколько годов, и Бог весть, ворожить бросила и никому не гадала. А теперь вот не вытерпела из жалости… И обещала барыньке за грешное дело взяться.
— Авось Бог простит, — утешала себя старуха. — Один разочек. Да и то не за деньги. А из жалости.
Когда внучка улеглась спать, старуха дождалась, чтобы она заснула, и принялась за таинственную работу, которая постороннему показалась бы бессмысленной.
Через час у Параскевы была в руках небольшая посудина, полная какой-то тёмной гущи. Она накрыла её полотенцем и спрятала к себе под кровать, только для того, чтобы внучка не увидела её.
На этой гуще предполагалось узнать всю судьбу "барыньки".
Наутро Параскева, едва проснулась, начала волноваться, сновала без смысла в комнате, выходила и бродила около домика. Её смущало и то, что придут к ней две барыни, и то, что надо опять себя осквернять ворожбой. Почём знать, думалось ей, может быть, она уже замолила свой грех молодости, а теперь, в сто лет, вдруг опять колдуй и душу губи.
Алёнка начала ещё с зари хлопотать и, вымыв пол, вытерев начисто стёкла двух окон, убирала и поправляла без конца всё, что попадало ей под руку… Раз десять переставляла она с места на место всякую всячину из их рухляди.
— Да уж полно тебе… — заметила Параскева. — И так ладно. Мы не дворяне какие. Чем богаты, тем и рады. Кроме огурчиков да брюквы, и угостить-то нечем. Да им и не нужно. А ты вот не забудь, что говорила.
— Нет! Нет, бабуся…
— Ни за что не лезь. Слышь? Покуда она будет у меня здесь сидеть, ты ни в жизнь не смей входить.
— Знаю. Знаю. Раз десяток слышала.
— То-то, Алёнушка. Смотри.
Старуха опасалась пуще всего, что правнучка, войдя в комнату, увидит вдруг на столе разложенные карты, которых отродясь, конечно, не видела, и, разумеется, охнет, перепугается, может, даже расспрашивать потом начнёт… А что ей скажешь? А если она брату всё расскажет, то Титка другим расскажет… Беда тогда! Тит князю своему сболтнёт. И пойдёт трезвон. Около полудня Параскева, выглядывавшая на лес, увидела двух дам. Они вышли на опушку и остановились.
Казалось, что они озираются по сторонам, нет ли кого постороннего, кто может их увидеть идущими в гости к старухе. Оглядевшись внимательно, они двинулись. Параскева пошла им навстречу. Обе барыни улыбались как-то особенно, точно будто подсмеивались. Над старухой ли, над собой ли, что к мужичке в гости идут, да ещё на ворожбу. Гадать про свою судьбу.
Приятельница барыни была почти одного с ней роста, но полнее, и не красива, как она. Только большие глаза были хороши, умные, быстрые… А над ними густые брови дугой придавали лицу немного суровое выражение. Барыня вошла в комнату, а приятельница её осталась на крылечке. Усевшись с Алёнкой рядом, она стала её расспрашивать.
Параскева усадила дорогую гостью в угол на лавке, за стол, и поставила пред ней лукошко со свежими огурчиками.
— На вот, не взыщи. Полакомись, чем Бог послал. С моего огорода, — сказала она.
Затем, достав из-под своей кровати посудину с гущей, старуха поглядела, удивилась и вымолвила:
— Ничего не вышло. Всю ночь стояла, и ничего!.. Худого нету, но и хорошего ничего не видать. Карты принесла?
Гостья тоже поглядела в посудину с гущей и рассмеялась. Затем она вынула из кармана и передала старухе колоду карт. Параскева вдруг при виде их стала сумрачна, вздрогнула глубоко, но, взяв колоду, начала своё дело. Когда карты были разложены на столе, она разглядела их внимательно и, забыв свой великий грех ворожбы, оживилась и начала качать головой.
Затем она выговорила тихо:
— Мати Божия!
Дама, видимо, интересовалась гаданьем вообще и пристально поглядела на старуху.
— Вот чудно-то. Чудно-то… — забормотала Параскева.
— Что же такое? Рассказывай! — улыбнулась она.
— Чудеса в решете!
Дама не поняла и повторила:
— Что же?
— А я не знаю. Тебе лучше знать… Ну вот, слушай… Я не вру. Я что вижу, то и говорю. Не моя вина — худо если… Не мне спасибо — коли хорошо. Кто же ты такая будешь, касатушка?.. Ты, видно, меня, старуху, морочишь. Ты вот, сказывают крести, важная-преважная барыня, богатая… У-у, богатая! Денег, денег, денег… Ах, Господи! Сохрани-и помилуй.
И, помолчав, старуха снова заговорила:
— Да, родимая. Ты меня, стало, морочишь. И радости тут все! И всякое счастие! И во всех делах всякое удовольствие! И врагов, врагов!.. Страсти! Так и кишат, окаянные. Зубы точат! И ничего, ничего, ничегошеньки поделать они не могут. Со зла поколеют все, прости, Господи! Ай, батюшки! И жених! Да. Только не суженый. Нет, не суженый. Жених так жениховствовать и останется… А вот этот лезет. Ой, злой! Вот злой-то… Чисто пёс цепной сорвался! И давай кусать. А зубов-то нету. Ну, гаданье!! Отродясь эдакого не видывала! — охнула Параскева.
Дама, внимательно слушавшая, рассмеялась, но спросила серьёзно:
— Будет ли мне благополучное окончание всего?
— Диковина! Всё будет. Всё! Вот тут и десятка жлудёвая. [8] И туз крестовый. А с ним-то, родимые мои, сам червонный развалет… Вот тебе привалило-то. Ну, уж привалило. Что же это ты меня, старуху, морочишь, говорила, всё-то у тебя заботы да горе. Какое тебе горе! Что ты! Не гневи Господа. Я эдаких карт не видела никогда. Гляди! Гляди! Жлудёвая-то восьмёрка, и та легла у тебя в головах… Ну, что ж тут! Тут и гадать нечего. Что хочешь ты, то и будет. Звёзды с неба все заберёшь и в карман покладёшь.
Дама оживилась не столько от слов старухи, сколько от её голоса и её вдохновенного лица.
"Пифия", — подумала она про себя и прибавила:
— Скажи мне, Параскева. Замуж я не выйду?
— Голубонька, касатушка… Прости! Я говорю, что вижу. Никакого супруга тут нет. Жених есть, но при себе самом и остаётся. Да ты, моя голубонька, меня не одуряй. Ты сама замужества не хочешь. Ты-то говорила это… Да я вот и тут вижу. Не хочешь. Да. Вот пиковая семёрка около жениха. Ты, выходит, рассуждаешь: "Проваливай, жених, я и без тебя обойдусь". Мне, касатушка, всё видать! Я всё наскрозь вижу по картам.