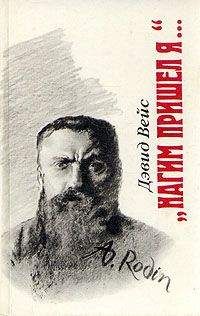Тишина в лесу. Сосны редкие, высокие, местами разлапистый ельник. Спешившись, взял Романов у челядина лук и колчан, осторожно, чтоб не скрипнуть, начал красться от дерева к дереву. Вскорости обнаружил — белка легко перемахнула с сосны на сосну, затаилась. Поднял боярин лук, натянул тетиву. Не успел зверек юркнуть — стрела настигла. Сбивая с веток белую порошу, белка мягко легла на снег.
Поднял боярин зверька, встряхнул. Невесома белка и нежна. Услышал, как дальний дозорный стрелец кричать вздумал, озлился, дурень, мешает охоте. Позвал десятника. Покуда тот прибежал, а стрельцы ему мужика волокут. Упирается, глазами по сторонам зыркает. Толкнули его стрельцы.
— Холоп беглый? — только и спросил воевода.
Завертел мужик головой отчаянно, не сказал, прохрипел:
— Дрова рубил, боярин.
Но не захотел Иван Никитич мужика слушать, махнул:
— Секите голову!
Укрывшись в густом ельнике, видели Акинфиев и Тимоша, как накинулись на мужика стрельцы, заломили руки. Вступиться бы, но строг наказ Ивана Исаевича: «С важным поручением уходите. Коли исполните, погоним царских воевод».
Прорвавшись через стрелецкое окружение, Федор Берсень с товарищами долго уходили от преследователей, покуда не убедились: отстала погоня. Ночь передыхали в лесу. Сидит атаман у костра, у него и думы невеселые, не может он сообразить, откуда стрельцы взялись… Совсем недавно рисовалась Федору картина, как возьмут они Нижний Новгород, на Москву пойдут и встретится он, Берсень, с Болотниковым. Скажет ему: «Привел тебе, Иван Исаевич, подмогу славную, принимай, воевода. Ждут инородцы от царя Димитрия избавления от лютых старшин, земли и освобождения человеческого».
— Что пригорюнился, атаман? — спросил Доможиров.
— Радоваться нечему. Крепко побили нас, все сызнова начинать. Не оправдали надежды Ивана Исаевича.
— Я со своими в северные леса подамся, там никакие царские воеводы не возьмут, руки не дотянутся.
— Нет, батька атаман, тебе не надо север, ходи с черемисами, — подложив дровишек в огонь, сказал Варкадин и отер лицо.
Видно Берсеню, как блестят слезы у старого черемиса. Оплакивает Варкадин своего друга Москова и порубленный народ, нет ему утешения. Положил Федор руку ему на плечо:
— Нет, Варкадин, нет, Доможиров, моя дорога на Арзамас, к мордве, оттуда к Ивану Болотникову все ближе…
А царские воеводы, порубив и рассеяв мятежников у Нижнего Новгорода, разделились: Пушкин двинулся усмирять арзамасцев, Одадуров погнался за черемисами. Жгли воеводы деревни и становища непокорных, чинили суд и расправу…
Расставшись с товарищами, лесными тропами и бездорожьем пробирался Берсень к Болотникову. Стороной миновал Арзамас, держал на Касимов. Бежавшие из города сотни арзамасцев рассказали, что царский воевода Пушкин принуждает целовать крест Шуйскому, а народ отказывается, ждет царя Димитрия.
Неделю пожил Федор у мордвы, а на восьмой день, простившись с хлебосольными хозяевами, покинул становище, повел ватагу вдоль Мокши-реки. Перебравшись через Оку, узнали, что Болотников в Калуге.
На Крещение солнце выкатилось багряным шаром, кровавым светом залило Москву. Юродивые и кликуши вещали с папертей о знамении Господнем.
Из храма Рождества Христова, что в самом центре Кремля, блаженный Елистрат через Спасские ворота прошел, гремя веригами, к храму Покрова, брызгая слюной, взвизгивал:
— Кровушка безвинного, кровушка! — Потрясая цепями, плакал, размазывая слезы грязным кулаком. — Грядет, грядет царь истинный!
Важно вышагивая, во дворец проследовал стольник князь Трубецкой, в шубе меховой, высокой горлатной шапке из соболя, на юродивого посох поднял:
— Ворон растреклятый, каркаешь!
Елистрат руками, что крыльями, замахал, вокруг стольника запрыгал:
— Царь Ирод! Царь Ирод! Сгоришь в геенне огненной!
Толпа загудела:
— Слышали, о чем Елистратка бает?
— Душа безгрешная, глас Божий!
Поотстав от Трубецкого, шел прибывший из Ростова митрополит Филарет. На голове скуфейка мягкая, поверх шелковой рясы тулуп овчинный. Приостановился.
— Елистратушка, сыне мой, почто прыскаешь, кем обижен?
Юродивый вслед уходящему стольнику в спину ткнул:
— Он, он — сатана сатанинская!
Подскочив к митрополиту, в грудь лицом уткнулся, плачет горько. Филарет гладит его по давно нечесаным, слипшимся волосам, приговаривает:
— Не роняй слезы, Елистратушка, уймись, Божий человек, молись.
Осторожно отстранив юродивого, вступил под своды Фроловских ворот.
В полночь в Замоскворечье вспыхнул пожар. Загорелось на подворье у князя Трубецкого. К утру жадный огонь слизал двухъярусные бревенчатые хоромы стольника. Загудел набат, сбежался люд, не дал огню перекинуться на другие дома. Ночь была безветренная, не выгорело Замоскворечье.
Народ расходился, судачил:
— Не то ли Елистратка предрекал?
— Блаже-енный!
Набат разбудил Филарета. Из высокого оконца просачивалось зарево.
«Горит», — догадался Филарет.
Сделалось тревожно: «Ну как пожар охватит всю Москву?..» В приоткрытую дверь заглянул монах.
— Стихает огонь…
Келью выстудило, и митрополиту зябко. Он снова улегся. Вспомнил утреннее кликушество Елистрата-юродивого, подивился.
Наезжая в Москву, Филарет находил приют в Чудовом монастыре, за толстыми стенами передыхал от церковных и мирских работ. А они одолевают. Вот вчера побывал в Вознесенском монастыре у инокини Марфы.
Захворала она, просила исповедать. Каялась в тяжком грехе, по злому умыслу чужого за сына приняла, смуту усугубила…
Вздохнул, посмотрел на окошко. Зарево спало. И сызнова Марфа на памяти. Ему ли, Филарету, неизвестно, откуда самозванец выявился? Всем, всем — и Шуйскому, и Голицыну, и Черкасскому, и ему, Федору Романову, — просить у Бога прощения за Лжедмитрия, что породили его, напустили на Русь. Да простит ли вины Всевышний?
Крепко обложили Калугу царские воеводы, а тут еще подмет строят. Растет гора бревен, надвигается на острог с севера. Что ни день, все ближе и ближе. Дворяне и стрельцы обнаглели, на сытых конях под стенами озоруют, выкрикивают:
— Скоро вас, воры, осмолим, будто свиней!
— Кому служите, стрельцы?
— Государю Василию Ивановичу!
— Брешете, нет такого государя! Есть один царь Дмитрий. А вы боярам служите.
В остроге у башни, что напротив подмета, плотницких дел умельцы поставили просторную клеть. Народ гадает, к чему бы? И никому невдомек, что на той клети землекопы под подмет ход искусный ведут, а землю тайно в мешках увозят. Распоряжался на подкопе есаул Кирьян.
Март оттепелью порадовал, и, хотя еще держатся морозы, весна давала о себе знать проталинами, капелью звонкой на выгреве.
Болотников в клеть наведывался часто, торопил. Кирьян отвечал степенно:
— Скоро, Иван Исаевич, погоди недельку.
Случалось, Болотников сбрасывал шубу, опускался в лаз.
А однажды Кирьян порадовал:
— Можно, Иван Исаевич, под самую сердцевину подмета ход подвели.
Глухой теменью санями привезли бочонки с порохом, закатили в подкоп, фитиль просмоленный протянули.
— Теперь — с богом, — перекрестился Кирьян.
— Завтра подожжешь, есаул, а как рванет, ударим и мы на слом, — сказал Болотников.
Днем, обойдя стрелецкие заставы, прорвался в острог гонец от Акинфиева и Тимоши. Передали атаманы изустно: пришли они силой в шесть тысяч ратников и встали в лесу за спиной у царских воевод. Ударят по знаку Болотникова.
На радостях обнял Болотников гонца.
— Утомился, знаю, вдругорядь отдохнешь. Сейчас Фекла тебя накормит, хмельного не даст, ворочаться тебе надо, и немедля. Скажешь атаманам: той ночью, перед самым утром, как услышите взрыв, начинайте.
Скопин-Шуйский пробудился от щемящей душу тишины. Она была особенной, какой-то тревожной. Дозорные и те перекликались редко.
Сквозь щель в пологе видно блеклое небо. Князь Михайло откинул полог. День начинался. Окликнув челядинцев, принялся одеваться.
Сегодня стрельцы завершат подмет, и заполыхает огромный костер. Он перекинется на стены острога. Скопин-Шуйский был уверен, Болотников дерзок, попытается прорваться, но наизготове пушечный наряд и стрельцы…
Покончив с Болотниковым, воеводы должны двинуться на Тулу. Тульский кремль каменный и подметом его не возьмешь, но и князь Андрей Телятевский не Ивашка Болотников…
Взрыв необычайной силы толкнул Скопин-Шуйского, ослепило яркое пламя. Будто разверзлась земля и там, где был подмет, до самого неба поднялся огненный столб. На стрелецкий лагерь рушились бревна и глыбы мерзлой земли.
«Подкоп! — догадался князь Михайло. — Не учли, понадеялись и за то поплатились. Ах, Ивашка, вот те и холоп, превзошел князей-воевод умом воинским».