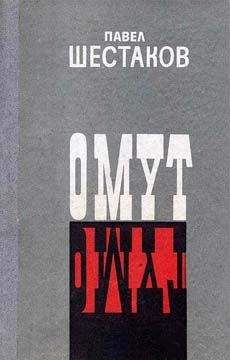— Но они заплатят.
— Юрий! Умоляю! Хочешь, я стану на колени? Ты не должен больше ни в чем участвовать. Война кончилась. Бог отвел от тебя смерть, так побереги же и ты себя. Ради нас, меня и мамы.
— Простить? Жить в ярме, пока не пошлют под нож? Нет! Ты говоришь, война кончилась! Это неправда. Она кончится, когда победит народ, а он только поднимается, пробуждается от дурного сна, от обмана.
— Юра! Ты погубишь себя! Народ за большевиков.
— Он был за большевиков, но его обманули. Теперь правда открылась, и народ ее видит. Главное только начинается. По всей стране восстания. Даже на поезд, в котором я возвращался, напали.
— Это же банда напала, а не народ.
— Так говорят коммунисты. Это они называют повстанцев бандитами.
— Юра!
— Замолчи! Я вижу штормовую волну. Это будет девятый вал, и он сметет… И я буду с народом.
«Неужели он на новую мою муку вернулся? — подумала Таня и тут же раскаялась в этой мысли. — Я должна спасти его, должна. Только так я искуплю свой обман, свою вину».
— Успокойся! После этих ужасных лет… Мы оба живы чудом. Ведь и я могла умереть вместе с ребенком. А снаряд, который попал в наш двор!.. Я не могу больше выносить кровопролитие. Мы вместе всего считанные минуты, а ты снова о войне, о смерти. Остановись, прошу тебя…
Она провела пальцами по его спутавшимся волосам. Эта непривычная ласка и успокоила, и взволновала его. Он приподнял ее и усадил рядом. Его близость всегда и наполняла ее счастьем, и пугала. Даже в ту ночь, когда она уступила Юрию, она почти принудила себя сделать это, думая о близкой и неизбежной разлуке, о фронте, где уже через несколько дней он может погибнуть. А когда услыхала о его гибели, будто и сама умерла, подавив все живые чувства. И сегодня шла к нему, думая только о ребенке, о мучительном объяснении, но не о близости, не о ласке.
И будто бы все повторялось. И ее первая ласка будто бы от рассудка шла, а не от чувства, а тем более страсти. Но вот, когда услышала она его прерывистое дыхание, когда нашли ее его губы, произошло вдруг ей незнакомое — будто и не было никогда их противоборства, и каждое движение его наполняло ее теперь не тревогой, а счастьем, и хотелось во всем покориться, вместе забыть обо всем на свете…
— Ты моя жена, — шептал он.
— Да, да, муж мой…
— Сколько же тебе пришлось перенести без меня!
— Но теперь ты здесь, со мной.
— Да. И забудь об этом несчастном малютке.
Он не заметил, как она напряглась в его объятиях.
— Может быть, так даже лучше…
— Что лучше, Юра?..
— То, что его нет.
— Отпусти меня!
— Таня! Что с тобой?
Но она уже стояла посреди комнаты, лихорадочно поправляя одежду.
— Тебе этого никогда не понять.
Она постепенно приходила в себя. «Максим был прав. Но разве я меньше виновата от этого?»
— Юра! Я не хочу ссориться. Я исстрадалась. Я истеричка, наверно. Подумай, нужна ли я тебе? Подумай.
— Я думаю об этом всю свою сознательную жизнь!
— Сейчас все изменилось. И жизнь, и все.
* * *
Барановский искал встречи с Юрием, но встретил его «случайно», на набережной, где до революции играл в ротонде духовой оркестр, а в девятнадцатом пушки снесли колоннаду, и остатки ее полукругом возвышались среди сорной травы, напоминая развалины древности.
Юрий стоял у парапета и смотрел на водоросли, щупальцами спрутов скользившие по гранитным камням причальной стенки.
— Здравствуйте, господин поручик.
Муравьев вздрогнул и обернулся в изумлении.
Барановский, напротив, смотрел, будто ничего необычного не произошло.
— Вы удивлены. Это естественно. А я нет. Я знал о вашем возвращении.
Юрий даже не нашелся, как обратиться к Барановскому. Не величать же его, в свою очередь, господин подполковник!
— Это в самом деле вы?
— Понимаю. Я разочаровал вас. Обещал сражаться под Парижем, в Америке, а сам здесь… Что поделаешь… Судьба странная штука. Спасла вас от красноармейской пули, а меня свалила в тифу, чтобы мы снова встретились.
— Как вы узнали, что я здесь?
— Это просто. От вашего квартиранта, господина Воздвиженского. Но как вам удалось избежать смерти?
— Косвенно я обязан вам. Пока за вами гнались, подъехал какой-то высший чин и заявил, что расстреливать пленных в Красной Армии строго запрещено.
— Вы не представляете, как я рад. Поверить не мог. К глубокому сожалению, я не мог прийти к вам в дом.
— Вы… нелегал?
— Можно сказать и так. Хотя и не сменил фамилии. Но, если наше знакомство вас компрометирует…
— О чем вы говорите!
— Я не сомневался. Мы можем немного побеседовать?
— Конечно. Это такая встреча!..
— Спасибо, Юра. Тогда поднимемся. Наверху не так многолюдно.
Они подошли к каменной лестнице, тянувшейся по склону вверх, в город, и начали не спеша подниматься по истертым плитам-ступеням.
— Однажды я видел мельком вашу невесту. Конечно, она не узнала меня в этом шутовском облачении, да и вряд ли запомнила с того дня, когда я занес ей ваши стихи и часы… Но я видел ее и, надеюсь, она и ребенок в добром здравии?
— Как раз о них я думал там, внизу, когда вы окликнули меня. Таня здорова, а наш мальчик умер.
— Это большое горе.
— Оно не случилось бы, одержи мы победу. А вы, простите, не отказались от борьбы? Впрочем, я понимаю, это нескромный вопрос.
— Что же нескромного в том, если офицер спросит у офицера, верен ли он присяге. Я верен. А вы? Считаете ли вы себя по-прежнему офицером?
Юрий заколебался.
Они остановились передохнуть на одной из лестничный, площадок, и Барановский молча ждал ответа.
— Я по-прежнему не приемлю большевизма, но и белое движение себя исчерпало.
— Что же остается?
— Вечен один народ.
Они снова двинулись вверх.
— Вы, кажется, за Советы без коммунистов? Забавный довольно лозунг. Вроде — за дырку без бублика. И вы верите в это пустое место, в эту химеру?
— Но вы же готовы отдать жизнь за свои убеждения?
— Моя борьба реальна. Но я искал вас не для того, конечно, чтобы погрузиться в очередной бессмысленный русский спор. Где вы видите борющийся народ?
— Кронштадт. В Тамбовской губернии…
— Ах, Юра! Оставьте. Есть такая вульгарная пословица: «Хохол взад умен», — Сначала любимый вами народ захватил для большевиков власть, потом поколотил и изгнал нас, а теперь схватился за голову. Поздно. Все эти братишки-матросики, болтуны-эсеры с бомбами, мужичье, прижатое налогами, — это всего лишь глина истории, а не движущая сила. Их ум, как эти солнечные часы. — Барановский показал на столбик с медным треугольником наверху. — Когда небо затягивают тучи и грохочет гроза, они слепы, и доверять им глупо.
— Всякое сравнение хромает.
— Вы интеллигент, Юра. И не понимаете народа. А я из рода тысячелетних крепостников. Я лучше знаю это рабское племя, которое мы в муках совести возвели на пьедестал и сделали из него идола. Или, вернее, идолище поганое.
— Я согласен, что народ темен и развивается медленно, но он бунтарь по природе. Он взбунтовался против нас, теперь он восстал на новых господ. Пусть с опозданием, пусть стихийно… Недавно я оказался в поезде, который подвергся нападению…
— То есть ограблению?
— Разве отнимать жизнь гуманнее, чем отбирать кошелек?
Барановский рассмеялся, облокотившись на столбик солнечных часов.
— Юра! Российское краснобайство неистребимо. Его не выгрызли из вас даже вши в окопах. Да, мне много раз случалось убивать, но никогда грабить. Простите великодушно, так воспитан, предпочитаю восьмую заповедь шестой.
— Но тот, кто организовал нападение, не был краснобаем.
— Я что-то слышал об этой личности. Кажется, его кличка Техник?
— Да. И я его хорошо знаю.
— Вот как?
Барановский спросил очень серьезно.
— Мы были приятелями в свое время. Когда я учился в гимназии. А он в реальном училище.
— И вы узнали его?.
— Он меня тоже.
— И мило поболтали, пока он экспроприировал вашу нетрудовую собственность?
— У меня был только браунинг. Он вернул его.
— Да… Пушкин бы сказал: «И невзначай проселочной дорогой мы встретились и братски обнялись».
— Нет. Мы не обнимались. Мы сделали вид, что не знаем друг друга. Я понял, что он так хочет. Но он намекнул, что мы можем встретиться.
— Зачем?
— Может быть, он хочет привлечь меня в свой отряд. Ведь у меня был пистолет.
— Как вам удалось сохранить оружие?
— Я выменял браунинг на пайковое пшено.
— Офицерское оружие — на пшено! О времена… Так что же представляет из себя ваш Дубровский?
— В свое время я считал его оригиналом.
— Видимо, вы не ошиблись.
Барановский произнес это с иронией, и Юрий тут же возразил:
— Он не бандит в вашем понимании. Я видел — он настоящий вожак, а его люди верят ему и идут за ним.