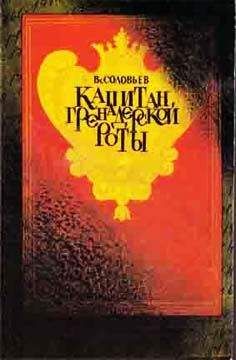Ее появление произвело не мало толков. Были люди, которые, глядя на нее, говорили и думали:
«Эх, матушка, царевна, чай, ведь, ты думала, что скоро к тебе все поедут на поклон, а сама на поклон опять едешь?»
Но таких людей было очень мало. Многие, напротив, и открыто выражали свою глубокую жалость к положению цесаревны.
«Не ей бы ехать, — говорили они, — а к ней бы спешить всем поздравлять ее со вступлением на престол родительский, целовать ее золотую, царскую ручку!»
Но она была спокойна.
Своей легкой, грациозной поступью вышла она из кареты у Зимнего дворца и прошла в покои Анны Леопольдовны.
У принцессы было уже много народу, все, кого она считала из своих: Миниха, Менгдена, Остермана, Левенвольде.
Были здесь и адъютанты фельдмаршала, Манштейн и Кенигфельс, оба деятельные участники ночного предприятия.
Все чувствовали себя очень хорошо. Все были бодры, довольны, велись оживленные разговоры на немецком языке.
Цесаревна на мгновение остановилась и невольно вздрогнула. Ни одного близкого, ни одного дружеского лица не видела она среди этого счастливого общества. Все это были люди совершенно чуждые ей по всему; был тут и личный враг ее: старый хитрый Остерман, которого когда-то, в первые дни своей юности, она считала другом, и который всю жизнь только и делал, что вредил ей, отстранял ее.
Но цесаревна сейчас же сдержала волнение и снова вызвала на лицо свое любезную улыбку.
Она подошла к Анне Леопольдовне, поклонилась ей и даже совершенно свободно, ни на секунду не изменившись в лице, поцеловала у нее руку, как у правительницы.
— От всего сердца радуюсь этому событию, — сказала она и прибавила вполголоса, — но только, сестрица, оно не было для меня новостью: в последний раз вечером у Бирона я слышала несколько фраз из вашего разговора с фельдмаршалом.
Миних стоял за стулом Анны Леопольдовны. Он слышал, что говорила цесаревна и невольно взглянул на нее с изумлением.
И у него, и у Анны Леопольдовны разом мелькнула мысль, что если она слышала этот разговор, — а что она слышала, в этом не может быть никакого сомнения, иначе откуда же бы она о нем узнала, — то, ведь, она очень легко могла бы погубить их. Она была в хороших отношениях с Бироном, она могла тут же, сейчас рассказать ему об этом разговоре, и весь план Миниха был бы разрушен. Но она никому ничего не сказала, она молчала и своим молчанием помогла им.
Ни Миних, ни Анна Леопольдовна не могли считать ее искренно расположенною к новой правительнице, следовательно, ее поступками руководил расчет. Но какой бы ни был этот расчет, она все же оказала услугу, а сама теперь для них совершенно безвредна.
Анна Леопольдовна крепко сжала руку Елизаветы и взглянула на нее ласково.
Цесаревна сказала еще несколько любезных, приличных фраз и отошла к принцу Антону.
Она сделала свое дело.
После того, что она объявила, авось, посовестятся теснить ее, авось, дадут ей спокойно прожить хоть первое время и без помехи приготовить все, что нужно.
«А, ведь, ей теперь это самое важное!» Пусть же смотрят на нее с пренебрежением, пусть она всем здесь чужая, ненужная; ведь, и ей здесь все тоже чужды и не нужны, и никогда не понадобятся.
Вот она села поодаль и наблюдала, как все счастливы и довольны, как во всех говорит честолюбие, какие все строят планы.
На нее никто не глядит, никто не считает необходимым даже обратиться к ней с самой пустой любезной фразой. Ничего, пусть! Тяжелая жизнь, многие несносные обиды, многие унижения могли бы ожесточить сердце Елизаветы. Глядя на нее теперь, можно было бы, пожалуй, подумать, что много злого чувства кипит в ней, что с полной ненавистью глядит она на Анну Леопольдовну, на Миниха, Остермана и всех этих Манштейнов, что она мечтает о мести, строит жестокие планы, но ничего этого в ней не было.
Конечно, она знала, что если удастся ей добиться своего законного наследия, она удалит от себя всех врагов своих, но мучить и пытать их не станет, ненависти ни к кому нет в ней. Ей только обидно и больно смотреть на двух главных врагов ее: на Остермана и Миниха, и больно ей только потому, что она дочь Петра, который был их благодетелем и которого они отблагодарили тем, что пренебрегли его родною, любимою дочерью. Но даже и эти горькие ощущения скоро исчезли, и цесаревна отдалась своему живому характеру: вдруг, все присутствующие начали казаться ей комичными. Она подмечала все их смешные стороны, она думала о том, как, вернувшись к себе, будет смеяться с Маврой Шепелевой, рассказывая ей обо всем, что видела здесь и слышала.
А, между тем, перед нею совершалось дело первой важности: распределялись награды.
Список Миниха был немедленно утвержден принцессой. Пожалованные подходили и целовали руку Анны Леопольдовны.
Затем началось совещание о том, что делать с Бироном и его семейством.
— Ведь они все еще здесь, внизу, — сказал Миних, — а семейство его в Летнем под караулом. Я полагал бы, что самое лучшее немедленно перевезти всех в Александровский монастырь, а потом отправить в Шлиссельбург.
Принцесса согласилась с этим.
Говорили о том, что нужно будет потребовать от Бирона всевозможные разъяснения, нужно будет нарядить следствие и т. д.
Затем Миних объявил, что все близкие к Бирону люди тоже уже схвачены: Бестужев-Рюмин, братья Бирона, Карл и Густав, и генерал Бисмарк.
— А что жена Бестужева? — спросила Анна Леопольдовна.
— О Бестужевых пускай вам доложат мои адъютанты, — отвечал Миних. — Я посылал их, по желанию вашего высочества, и господин Манштейн вот только что вернулся.
— Госпожа Бестужева, — сказал Кенигфельс, — была в ужасном отчаянии, когда я к ней приехал. Я спросил ее, хочет ли она следовать за своим мужем, она отвечала, что хочет, но так плачет, в таком отчаянии… Я всячески уговаривал ее, уверял, что ничего дурного не будет ее мужу.
— Ну, это хорошо! Там выяснится, будет ли ему дурно, или нет, — заметил Миних. — А сам Бестужев как? — обратился он к Манштейну.
— Я сказал ему, — ответил Манштейн, — что ее высочество приказала послать его в ссылку недалеко. Он стал просить меня, нельзя ли ему видеться с вашим сиятельством, но я сказал, что никак это невозможно, потому что вы очень заняты. Тогда он даже заплакал. «Попросите, — говорит, — фельдмаршала, чтобы он меня не оставил, а помнил то, что и сам он состоит в дирекции Божией, как сам видит это из моей судьбы: вчера я был кабинетным министром, а теперь арестант!»…
— Конечно, ужасно, когда происходят такие перемены с людьми, — заметила Анна Леопольдовна, — но, ведь, кто же виноват? Нельзя же нам награждать врагов наших, избавлять их от должного наказания! Только, во всяком случае, господа, — обратилась она ко всем присутствовавшим, — я не намерена начинать жестокостями. Я хочу, чтобы дело Бирона и его сторонников разбиралось без всякого пристрастия и им была бы оказана возможная милость, и я надеюсь, что вы в этом согласны со мною?
— Да, слишком много было жестокостей, слишком много казней и пыток, нужно, чтобы Россия отдохнула от всего этого! — совершенно невольно и не обдумывая, какое впечатление произведут ее слова, проговорила цесаревна Елизавета.
— Конечно, да! Я с вами согласна, сестрица, — горячо ответила ей Анна Леопольдовна.
Наконец, все начали расходиться.
У каждого было много дела, нужно было созывать синод, министерство, генералитет.
На следующее утро городу было объявлено о совершившемся. Всюду читали манифест, подписанный синодом, министерством и генералитетом.
В манифесте, от имени императора Иоанна III, объявлялось, что «хотя по предписанию императрицы Анны регентом был назначен герцог Курляндский, но ему велено было свое регентство вести по государственным правам, конституциям и прежним преданиям и уставам, и особливо велено, не токмо о дражайшем здравии и воспитании нашем попечение иметь, но и к родителям нашим и ко всей императорской фамилии почтение оказывать. Но вместо должного того исполнения, он дерзнул не токмо многие, противные государственным правам, поступки чинить, но и к любезнейшим нашим родителям великое непочтение и презрение публично оказывать и притом с употреблением непристойных угроз и такие дальновидные и опасные намерения объявить дерзнул, которыми не токмо любезнейшие родители наши, но и мы сами, и покой и благополучие Империи нашей, в опасное состояние приведено быть могли бы и потому принужденными себя нашли по усердному желанию и прошению всех наших верных подданных, духовного и мирского чина, оного герцога от регентства отрешить и по тому же прошению всех наших верных подданных оное правительство поручить нашей государыне матери».
Никто не противоречил. Все, начиная от высших сановников и кончая простыми петербургскими жителями, приняли важную новость довольно равнодушно. Покуда еще не знали в чем дело — любопытствовали, толковали, а узнали и затихли. И это должно было казаться очень многозначительным наблюдающим людям.