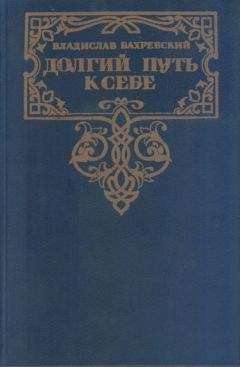Сабли скрестились, как молнии в степи, во весь грозящий пыл.
Видно, звезды пана Мыльского стояли в том году так худо, что и на весь род его хватило бы печали. Пан Мыльский двумя ударами заставил пана мазовецкого понять, что ежели он не крикнет теперь же друзьям своим, чтоб заказали поминовение, то уж потом не придется. И тут молодец попал ногой в пивную лужу, оскользнулся, и мазовецкий пан поспешил хватить его саблей по голове.
Не пришлось Богдану излить душу в долгой беседе, пришлось раненого молодца спасать. Перевязывали они с Гунцелем пана Мыльского, к лекарю везли, потом разыскивали дом, в котором пан Мыльский остановился. И нашли в том доме пани Мыльскую, прибывшую в Варшаву искать управы на Иеремию Вишневецкого.
Пани Мыльская, выслушав осторожные речи Гунцеля, не помертвела, не заплакала. Перекрестилась и принялась хлопотать возле сына. Лекаря искать доброго, денег взаймы искать на лекаря.
5
При короле Зигмунде III в сенате было сто сорок шесть сенаторов: семнадцать епископов и архиепископов, десять министров, двадцать семь воевод и гетманов, один староста, три каштеляна, остальные места были отданы князьям и самым влиятельным магнатам.
При Владиславе IV состав сената особенно не изменился. Звание сенатора получили епископ смоленский и черниговский каштелян Адам Кисель.
И вот стоял сотник Хмельницкий в кольце золоченых кресел, и люди, занимавшие в этих креслах места — старые, молодые, важные и очень важные, сонные и сверлящие глазами, — были уже не людьми, а неким чудищем, нареченным тяжелым словом — Власть.
— Подстароста чигиринский, — начал говорить Богдан и услышал вместо голоса один только сип, прокашлялся в кулак. — Подстароста чигиринский пан Чаплинский нанес мне многие обиды. Отнял хутор Суботов, пожалованный гетманом Конецпольским моему отцу Михаилу Хмельницкому. Пан Чаплинский засек моего сына до смерти и силой увез мою жену. — Подумал, что надо бы сказать о том, как сожгли предательски грамоту на владение хутором, как пытались убить в бою, как подстроили засаду на поединке, но ведь скажут: докажи!
— Пан Хмельницкий, у вас все? — спросил король.
— Все, ваше величество.
Долго, страстно говорил пан Чаплинский.
«Я-то что же сплоховал? — думал Богдан. — Надо б тоже слюной брызгать. Ишь мерзавец, выставляет себя радетелем государственных интересов».
Когда дошло до сути дела, Чаплинский поубавил пыл, каждое слово его было вымерено и взвешено заранее:
— Хутор Суботов принадлежал староству, и я возвратил его. Пан староста определил выдать пану Хмельницкому пятьдесят флоринов за те постройки, которые были возведены на хуторе отцом и сыном Хмельницкими. Еще раз повторяю: я сделал то, что на моем месте совершил бы любой рачительный человек, находящийся на службе Речи Посполитой, для которого интересы Речи Посполитой превыше всего.
Суд объявил решение по первому вопросу:
— Пусть пан Хмельницкий сам себе припишет потерю хутора, потому что он не запасся форменным свидетельством на владение, ибо не всякий владелец вещи есть ее господин. Пану Хмельницкому остается прибегнуть к милосердию старосты чигиринского и просить, чтобы он, если пожелает, утвердил распоряжение своего отца, Станислава Конецпольского, и выдал форменное свидетельство.
— Сын пана Хмельницкого жив-здоров, — отвел от себя второе обвинение пан Чаплинский. — Его высек не я, а пан Комаровский. Высек за то, что этот молокосос посмел оскорбить меня, подстаросту, когда я находился при исполнении королевской службы.
— Сын жив, — согласился Хмельницкий, — но его еле выходили. Сын оскорбил пана Чаплинского, защищая дом от разбоя.
— Но сын ваш жив? — уточнили судьи.
— Жив.
— Что касается жены пана Хмельницкого, — явно повеселев, отвечал пан Чаплинский суду сенаторов, — то эта женщина не была его женою. Он насильно держал ее у себя. Оттого-то она так легко оставила пана Хмельницкого. Она мне понравилась, и я соединился с нею по обряду римско-католической церкви. Моя законная жена приняла римско-католическое вероисповедание, и поэтому никто не заставит меня отпустить ее от себя. Да если бы я и сделал это, то она сама не захочет ни за что на свете воротиться к пану Хмельницкому.
Рассказ вызвал смешки, и суд обратился к Хмельницкому с увещеванием:
— Охота тебе, пан Хмельницкий, жалеть о такой женщине. На белом свете много красавиц получше. Поищи себе другую, а эта пусть остается с тем, к кому привязалась.
«Как он взовьется, старый дурень, — искоса поглядывая на Хмельницкого, злорадствовал пан Чаплинский, — когда наконец узнает, что его краля молит Бога в обители за наши грехи».
Тем и закончился суд сенаторов по иску чигиринского сотника пана Хмельницкого на чигиринского подстаросту пана Чаплинского.
6
Сидели впотьмах. Гунцель хотел зажечь свечу, но Богдан, морщась, как от зубной боли, попросил:
— Не надо! Дай ковш воды. Злое нынче у меня сердце. Такое злое, что и вина не хочется. Хочется, чтоб казнила меня, корежила эта неизбывная злоба.
Гунцель принес воды:
— Пей, Зиновий. Тебе бы выспаться.
Богдан залпом выпил воду.
— О, какое это было бы облегчение — заснуть. Так ведь нет его, сна. А если ты спать хочешь, то прошу тебя, не уходи. Посиди со мной. Одному быть невмоготу. Пойми, Гунцель. Сунула меня беда головой в сточную яму и — вот ведь диво! — не запачкала, а только содрала коросту, в которой всю жизнь прожил, как в броне от чужой напасти. А какая же она чужая, когда это беда твоего родного народа. Принеси-ка еще ковшик, я тебе такое скажу, что и сам себе не говаривал.
Гунцель принес воду. Богдан отпивал из ковша малыми глотками и говорил тихо, печально:
— Человек от природы — подлец. Что я, не видел, что ли, как измываются ляхи и наши реестровые над простым людом? Видел, а верой и правдой служил на благо шляхте потому что самому кусок с того стола неправого перепадал. Не больно жирный кусок, но его хватало, чтоб глаза поросячьим жирком затягивало, чтоб уши крика народного не слышали. А вот теперь, когда сунули между дверьми и прищемили хвост, в колечко загнутый, вспомнил о народе. Сам-то за себя постоять не сумел. И одна теперь надежда — на свой народ… Его еще поднять нужно. Так ведь и поднимется! Ясновельможные паны мне тут в помощь, еще один налог придумали. Слушай меня, Гунцель, слушай! Не раз еще в Варшаве поперхнутся, меня вспоминая. Сенаторы! Чего им сотник? Посмеялись над бедой и забыли. А я гвоздем пришибу их память к своему кресту. Они меня и в десятом поколении помнить будут. Был я — букашкой, сотником, а теперь я и вовсе растворюсь, стану безымянной бучей. Ты веришь мне, Гунцель, друг мой? Довольно я дрожал за свою благополучную жизнь, за суконный кунтуш, за сытый стол. Да, положа руку на сердце, скажи, стоило ли ради этого небо коптить? Вот увидишь, Гунцель, я проживу другую жизнь. Может, и короткую, но не ради своего брюха. И уж в ней будет больше проку, чем в тех пятидесяти двух, которые я успел проскрипеть.
Богдан допил последние крохи воды и замолчал.
— Выговорился, Зиновий? Теперь уснешь.
— Усну, — согласился Богдан. — Крепко усну.
7
Он увидел свечу. Ее несли к нему, то ли по какому-то бесконечному коридору, то ли поднимали снизу, из бездны колодца. Он следил за свечой, не двигаясь. Даже радовался, что свеча далеко, знал — надо успеть набраться сил. Свинцовая тяжесть не уходила из тела, и он заранее горевал, что свеча приблизится и поднимет его, когда он не успеет вылежаться до утренней бодрости.
Свеча подошла.
— Зиновий! Вставай, Зиновий!
— Но разве утро? — спросил Богдан ровным голосом, притворяясь, что проснулся.
— Зиновий, проснись! Тебя ожидает король!
— Король? — Богдан сел.
— Скорее, за тобой прислали экипаж! — шепотом сказал Гунцель.
Богдан отер ладонями лицо. Встал.
В карете уже сидел кто-то.
— Здравствуйте, пан Хмельницкий!
— Здравствуйте! — ответил сотник, хватаясь за сиденье: лошади рванули дружно и рьяно.
— Вы меня, наверное, не знаете. Я редко бываю в Польше. Я — брат его величества, Ян Казимир.
— Ваше высочество, за что мне такая честь?! — изумился Богдан.
— За вас ходатайствовал пан Адам Кисель. Его величество знает вас и ценит.
— Его величество присутствовал во время суда, в котором я проиграл, — обронил Богдан.
— Участь короля Речи Посполитой — горькая участь, — сказал Ян Казимир. — Вы знаете, какую клятву дает король шляхте, вступая на престол? Каждый ее пункт унизителен. Король клянется не присваивать коронных имений, он должен жить на доходы с одних только поместий для королевских особ. Он не смеет покупать для себя и клянется не иметь в Речи Посполитой ни одной пяди земли. Без согласия сейма королю не позволено набирать войска. Он не имеет права взять под стражу шляхтича ни за какие преступления, если минует по совершению преступления двадцать четыре часа. Королю запрещено объявлять войну и даже посылать послов без согласия республики. Королю навязано иметь при себе неотлучно трех сенаторов, которые должны следить за его поступками, чтоб они не клонились во вред Речи Посполитой. Без согласия сената король не может вступить в брак, ему не позволено заключать договоры. Выехать за границу, не спросившись сената, он тоже не имеет права. Король обделен возможностью жаловать дворянством людей подлых ни за какие заслуги, исключая оказанных Речи Посполитой, и обязательно с согласия сейма. Вот что такое король польский!