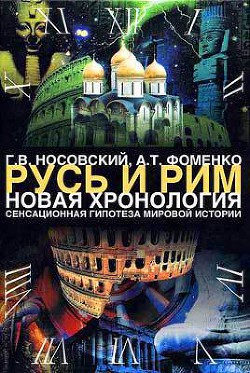чуждые их духу люди и подведут под неправый суд киевского тиуна?» Но и то верно, что на Руси не часто обижали скоморохов, полагая их слово еще и от Богов отпущенным. А уж что касается смелости побродяжных людей, так про нее говорят с гордостью, а нередко и с ликующим восторгом. Есть в скоморохах некая слиянность с миром. Не оттого ли даже при встрече со зверем скоморошьи ватажки не свернут с тропы, и пардус старается обойти их?..
Истинно, от вольного сердца и ветер вольный. В прошлое лето под Купалу побывал Богомил в Арконском святилище на острове Рюгене, в душе обозначилась такая надобность, она и привела его на дальний, сплошь в серых каменистых проплешинах, отсеченный от мирской суетности, тихий, омываемый угрюмыми холодными водами, остров. По прибытии сюда и произошло освященное небом. Богомил Богами данной властью возжег всеочищающий огонь, и был огонь высок и горделив, и светлые лики Сварога и Перуна, Мокоши ожили в сером камне, и это заметили люди и вострепетали. Но трепет не от страха пред всевышней силой, а от торжества духа. Люди увидели, что Боги с ними. И сказал Богомил слово вещее, услышанное теми, кто был далеко, и всяк повторил про себя это слово:
— От вольного сердца и ветер вольный…
И привели ко святилищу плененных воинов Черного Поля, но не было у русского человека желания склонять к угнетению чужую душу, и сказал Богомил, сурово глядя на них, все ж не без участия в открытом взгляде синевою обласканных глаз:
— Отныне отпускаю прегрешения ваши перед русскими землями. А если кто пожелает остаться, то и не ломайте своего желания.
И не оказалось среди плененных никого, кто захотел бы покинуть принявшие их племена, каждый, преклонив колено, брал в руки протянутый старейшиной меч и целовал горячую от всеочищающего огня, темно и жестко посверкивающую сталь.
А потом люди сняли с холмистого возвышения остаревшего идола с ликом Даждь-бога и понесли к ближнему урезу багряной воды. Широко разлилось песнопение, славящее отпущенное от жизни, когда спустя время они спустили идола с ликом Даждь-бога на воду, и ближняя волна легко приняла его. А когда в небе появилось утреннее свечение, еще слабое, мерцающее, на холме воссиял обновленный Даждь-бог, и лик его был чист и прозрачен.
— Сделал, княже, по слову твоему, — сказал Добрыня, войдя в теремные покои и зелено поблескивая глазами. — Спровадил варяжьи ватаги в Царьград. Пущай теперь Василевс с ними милуется.
Усмешка скользнула по толстым губам Добрыни, тихая, вкрадчивая, точно бы Большой воевода опасался неосторожным словом обидеть племянника. Он и вправду, ощущая душевное неустройство молодого князя, не хотел бы вызвать в нем пущую обеспокоенность и старался быть с ним мягким и терпеливым. Владимир видел старание воеводы и был благодарен ему, хотя ничем не проявлял этого. Но Добрыня и так все знал и надеялся, что недолго Владимиру находиться в угнетении, придет срок, и отпадет сие, и душа его станет готова к приятию земной жизни.
Что и говорить, и сам Добрыня испытал беспокойство, когда находники, вступив в Киев, повели себя дерзко и вызывающе, вламывались в домы городских жителей и чинили разор. Они повели себя так привычно свойству своего ремесла, по праву победителей, хотя, если бы не помощь от русских земель, сами они едва ли одолели бы супротивную силу и вошли в стольный град. На них не действовали уговорные слова старейшин, они даже Видбора, призванного Большим воеводой, не послушали, требовали отступного — по две гривны на человека. Деньги большие, если принять во внимание, что вся казна новогородского князя ушла на строительство войска, а та, на которую указал Блуд, была мала, ее едва хватило, чтобы по восшествии на киевский Стол обойти ликующим ходом городские концы и одарить жителей согласно дедовскому обычаю. Да запомнится в летах сие восшествие и весть о нем передастся из уст в уста!
Понимая про опасность, исходящую от ватажек находников и зная, что поладить с ними будет непросто, Добрыня, испросив разрешение у Великого князя, отправил гонцов в разные русские земли с просьбой прислать еще воинов под киевские стены, указывая на своевольство варяжских ратников. И это было сделано всеми, в русских племенах отнеслись к просьбе Большого воеводы с пониманием. Уже давно находники, подобно гультяям с вольного Поля, не принимаемы в осельях и городищах. И вот, когда близ Киева, у дальних ворот, блестя шеломами и мечами, собралось в немалом числе русское воинство, Добрыня поднялся на городскую стену с варяжскими князцами и сказал сурово и холодно, как если бы возле него стояли не сотоварищи по недавним походам, а чуждые его духу люди:
— И бысть сему войску направленну противу вас, если вы не покинете стольный град.
Среди вряжской старшины поднялся шум, послышались угрозы, а кое-кто, исполнясь все еще не утоленной жажды смертоубийства, вознамерился немедля спуститься со стены и вступить в сражение с хотя бы и превосходящим противником. Но более рассудительные и уже немало отягощенные добычей взяли верх и вняли слову Большого воеводы, тем более что под конец он сказал:
— Кесарь обещал Великому князю, и про то отписал ему, что в Царьграде вас примут на службу в войско Василевса и богато вознаградят.
Добрыня вопрощающе и с чуть заметным напряжением во взгляде посмотрел на Владимира, точно бы ожидая от него одобрения, не дождался и торопливо покинул великокняжьи покои. Впрочем, в его торопливости ясно угадывалась намеренность. Он как бы хотел сказать Владимиру: вот видишь, даже я, сотворивший из тебя властелина, чувствую неуверенность пред твоей властью и хочу, чтобы ты заметил мое старание и, наконец-то, отошел от тягостного смущения. Можно ли так упорно и долго держать душу в утеснении, не пора ли отрешиться от смутившего и стать тем, кем ты должен стать по праву наследования?
Этого, обозначенного в торопливости, с какою Добрыня покинул великокняжьи покои, нельзя было не заметить, и Владимир заметил и усмехнулся, все ж не оттеснился от непокоя на сердце. Он не смог бы этого сделать, если бы даже пожелал. Владевшее им и все в нем взбулгатившее зависело не только от него, но в большей степени от другой силы, как если бы она шла от Рогвольда и его сыновей, тени которых все еще стояли у него перед глазами. Он ощущал эту силу вокруг себя и стремился понять, отчего она до сей поры не сломлена, и напрягал все в существе своем. И, когда