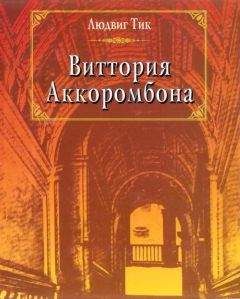— Негодяй! — крикнул он. — Так обходиться с благородным человеком! Разве ты не видишь, кто перед тобой?
Незнакомец заплатил за меня. Побледневший хозяин принял плату из рук господина. Когда я хотел представиться ему и поблагодарить, он воскликнул:
— Не стоит, давайте еще на какое-то время останемся безымянными знакомыми и попутчиками. Позвольте быть для вас просто спутником.
Наше путешествие продлилось несколько дней, а когда прибыли в Рим, я узнал, что он нанимает дом недалеко от Порта-Капены{89}, где живет один, почти без прислуги. С тех пор мы нередко встречались. Я много рассказывал моему новому знакомому о вас, и он очень просил представить его вам. Но этот человек своего рода мизантроп и, кажется, особенно не любит высший свет. Узнав от меня, что вас нередко посещает высокомерный Фарнезе, он было пожалел о своем намерении, но все же просил разрешить ему посетить вас, когда вы одни. Если не ошибаюсь, завтра вечером вы не ждете гостей. Позвольте, я приведу этого необычного человека к вам?
— Охотно, — сказала Виттория, — только берегитесь, дорогой, привести в наш дом какого-нибудь переодетого бандита, который ограбит и убьет нас.
Капорале громко рассмеялся и возразил:
— Нет, прекрасная подруга, на такого мой знакомый не похож: открыл мне наконец, что он зажиточный купец из Ломбардии и покинул ее, потому что, как все мы знаем, в Верхней Италии свирепствует чума.
— Ты забыла, Виттория, — вмешалась мать, — что завтра здесь будут Челио Малеспина и ваш юный друг, дон Чезаре, словоохотливый Боккалини{90}.
— Эти, я думаю, ему не помешают и не будут путаться под ногами, — заявил Капорале, — но я все же предупрежу его, а он решит, что делать. Будьте добры, не принимайте больше никого.
На следующий вечер семья собралась, и молодой Боккалини — большой почитатель поэта Капорале — появился первым. Вскоре пришел Малеспина, уже несколько месяцев занимавший во Флоренции пост секретаря у герцога Франческо, который приступил к правлению несколько лет назад. Малеспина был молод, общителен, и знакомство с большим светом, где он смог лучше узнать отношения при дворе, казалось, радовало его. Он озорно посмеивался над многими вещами, о которых год назад почтительно помалкивал. Кроме того, он знал литературу и был лично знаком со многими учеными.
Вошел Капорале со своим новым другом. Незнакомец вежливо поздоровался со всеми, его утонченные манеры выдавали в нем светского человека; он галантно заметил, что уже давно мечтал познакомиться и узнать поближе знаменитую Аккоромбону, молва о которой идет по всей Италии; но он поражен, ибо слухи о красоте донны Виттории не могут передать всего ее очарования; был любезен с матерью, не забыл и Перетти, и обоих гостей. Его уверенность и утонченность говорили о нем как о человеке большого опыта, много испытавшем; он легко расположил к себе всех присутствующих.
Челио Малеспина рассказывал о Флоренции; Боккалини высмеивал некоторых римских ученых и государственных мужей; Капорале пытался смягчить слишком острые суждения. Внимание Виттории было приковано к незнакомцу, ей сразу бросилась в глаза его необычность. Она отвечала рассеянным смехом на заданные вопросы. Мать тоже потихоньку рассматривала гостя и лихорадочно пыталась вспомнить, не встречала ли раньше в своей жизни этого статного и сильного человека с пламенным повелительным взором. Перетти испытывал своего рода робость и страх перед незнакомцем, и его участие в беседе выглядело еще более нелепым, чем обычно.
Малеспина рассказывал, что во Флоренции стали известны несколько песен «Освобожденного Иерусалима» Тассо и привели в восхищение весь двор.
— Всем ясно, — продолжил он, — что этот молодой человек теперь самый большой гений нашего отечества. Тут и там уже раздаются голоса, которые ставят его выше нашего великого Ариосто.
— Эти вечные споры о том, кто выше и кто ниже! — невольно воскликнул Капорале. — В своей сфере божественный Ариосто никогда не будет достижим; Тассо представляет, насколько я знаю его прекрасную поэму, совершенно иную область поэзии. Эти два магических круга не могут соприкоснуться ни в одной из точек их волшебной траектории. Хрустальные дворцы Ариосто залиты сияющим светом шутки и веселья, пронизаны нежным озорством, а серьезность жизни превращена в легкую, хотя и глубокомысленную игру. Поэтические образы Тассо блуждают в зеленой сумрачной чаще, любовь у него сладка, но без лукавства, войны и приключений героев и юных дев; все проникнуто нежным участием, и дружеская печаль охватывает и пронизывает наш дух, когда мы отдаемся поэтическому упоению. Как не похож на это ослепляющий, захватывающий и манящий лабиринт нашего Ариосто! Зачем нам духовное величие, если в этом чарующем саду вместо Минотавра нас застигает врасплох хоровод смеющихся шаловливых нимф и сатиров, которые поднимут нас на смех за наши ожидания.
— О, как это верно! — вступила, наконец, в разговор Виттория. — Пусть Ариосто остается величайшим поэтом для знатока, который взвешивает его достоинства на весах, нежного Тассо всегда можно поставить рядом с ним.
Боккалини заявил:
— Поверьте, даже самые прекрасные произведения должны некоторое время оставаться неизвестными, пока не достигнут достаточной зрелости, чтобы удовлетворить вкус толпы, тогда она найдет в них особую прелесть. Истинных ценителей поэзии, опережающих свое время, всегда немного. А дикий, легковозбудимый, неотесанный человек поклоняется то одному бесплотному духу, то другому, как богу, и готов лоб себе расшибить, служа очередному истукану.
Статный незнакомец бросил на молодого человека острый, испытующий взгляд, заметив:
— Верно! Такое происходит нередко, но всегда ли время все ставит на свои места, отделяя семена от плевел? А сама история — разве она не вводила в заблуждение наивных потомков? Да, порой это так называемое будущее бывает таким рассеянным и забывчивым! Оно слишком падко на новые ценности, чтобы помнить о старых сокровищах. Новое кажется ему потому только лучшим, что оно ярче блестит, а массивное золото прежних дней потускнело от времени. Не слишком ли скоро блестящий Ариосто и полный юмора Берни вытеснили благородного Боярдо{91} в кладовую прошлого?
— Конечно! — включилась в разговор донна Юлия. — И меня радует, что благородный человек затронул сейчас этот серьезный вопрос. Изобретательный поэт Тассо проложил нам новую колею, он был упоен сладким вином прекрасных фабул, а теперь наконец превратил ароматные гроздья своего богатого виноградника в прекрасное вино.
Виттория с восхищением посмотрела на мать, с уст которой сорвалось такое великолепное поэтическое сравнение.
Малеспина снова рассказал о Тассо; он, судя по слухам, недоволен своим положением при дворе Феррары, ему хочется уехать, и он якобы ведет тайные переговоры с флорентийским герцогом, великим Франческо{92}. Князь тоже благоволит ему, а еще больше, кажется, его возлюбленная Бьянка Капелло. Только поэт настолько нерешителен, что дальше переговоров дело не идет; и флорентийский двор не хочет слишком открыто идти ему навстречу, чтобы не выдать себя герцогу Альфонсу, чья многолетняя неприязнь к Медичи всем известна.
— Вообще, — продолжил Малеспина, — бедного Тассо ждет несчастная судьба. Его избаловали и одновременно унизили; одни обожествляют его талант, другие умышленно порицают его, а он не может не прислушиваться ко всем, кто слывет знатоком, и сам отдает им в руки меч правосудия. Если он будет так податлив, то в его поэме скоро не останется ни одной живой строчки, самое важное и прекрасное будет полностью выхолощено. Консервативные критики, с трудом воспринимающие все новое, ругают Тассо, например, за то, что он ввел в эпическое произведение прекрасные вставные эпизоды, разрушив тем самым, по их мнению, классическую литературную форму. Если же бедняга начинает обороняться от этих стервятников, то в его сторону летят упреки в тщеславии, гордыне, и при этом педантичные придиры ведут себя так, будто поэт еще должен сказать им спасибо за то, что они терзают и топчут его произведение, которому он отдал годы труда, мучительных поисков и любви.
— Да, да, — согласился Капорале, — этой беде может посочувствовать только поэт.
— Таким образом, несчастный, — продолжил Малеспина, — теперь недоволен собой и всем миром. Он хочет уехать, и чем дальше — тем лучше, но герцогу Альфонсу{93} не хочется терять его. Множество завистников при дворе мечтают его прогнать, лжедрузья злорадствуют, наслаждаясь унижением талантливого человека.
— Хочется плакать, — воскликнула взволнованно Виттория, — когда видишь, как в нашем бедном отечестве гений, как дворовый пес, скован цепями княжеской милости. Игрушка в руках капризных высокомерных господ, не признающих талант, он низведен до положения слуги, его приносят в жертву и часто даже лишают жизни из самых низменных побуждений. О, это могло бы быть хорошей темой для трагедии, гораздо более захватывающей и проникновенной, чем холодные упражнения какого-нибудь Спероне или Триссино{94}.