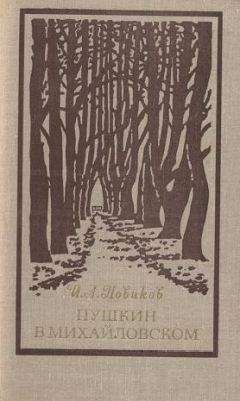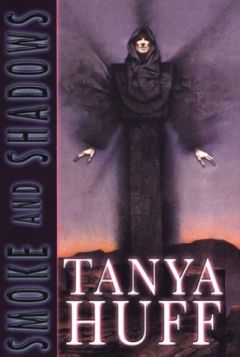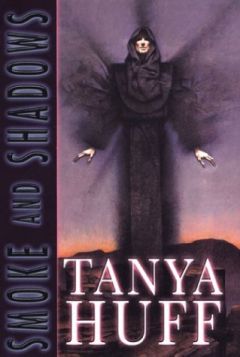— Отец почти невменяем сегодня… — Лев произнес это у самого дома и таким просительным тоном, точно надеялся отвести грозу окончательно.
Но брат молча, как бы в ответ, кинул ему поводья и быстро взбежал па крыльцо. Оставшийся с лошадью Лев никак уже не мог его задержать. Очутившись у двери отца, Пушкин слегка постучал. Теперь, так казалось ему, он был господином своего возмущения.
— Войдите!
— Теперь я вхожу с разрешения, — сказал Александр, ступив за порог, и остановился на отдалении; здесь же сидела и мать. «Тем лучше, — подумал он. — Cpaзy конец».
— Я не просил тебя, кажется, приходить, — язвительно вымолвил Сергей Львович и поднял свою небольшую головку на сына.
— Как я не просил вас читать мои письма, — с горячностью сразу вступил Александр. — Постойте… я вам скажу. И вы обязаны выслушать. Я хотел бы покинуть вас, мне тяжела совместная жизнь. Но и вас не хотел бы я заставлять… жить с сыном, которого вы ненавидите, в котором не признаете никаких человеческих чувств…
Пушкин заметил, как отец, защищаясь и возражая, поднял было вверх тонкую руку, по ему было необходимо сразу же все досказать, и, выдавая тем самым, что разговор со Львом был известен ему, он с напряжением закончил:
— Нет, нет! Вы это все говорили! Так я не хочу заставлять вас… жить с выродком!
Он повторил теперь это слово, и внезапная дрожь его проняла. Снова кровь бросилась в голову, и ноздри его заходили, как у коня; вся его выдержка, с которого он приготовился говорить, исчезла бесследно.
— Александр, ты оскорбляешь отца! — И Надежда Осиповна, не поднимаясь, выпрямилась на кресле.
— Он мне отец по рождению, как я ему по рождению сын. Так, батюшка? Кажется, так вы меня объяснили? Но отцы не бывают шпионами, какими бы ни были чудовищами их сыновья! — Голос его зазвенел. — Я этого не потерплю! Я вынужден дома не покидать, и я требую у вас объяснения.
При этих словах Сергей Львович, сидевший к сыну лицом, быстро, вместе с кожаным креслом, двинулся к стенке. Было ясно, что он опасался не слов, — и Пушкину вдруг показалось, что кресло отца стало просторней.
— Вы боитесь меня, — продолжал Александр, — но вы ведь не император, и я пришел к вам без шарфа.
— Замолчи, Александр! — снова крикнула мать.
— Ты уже оскорбляешь монарха! — взвизгнул отец. — Где наши люди? — И он высунул тщедушную руку, заметно дрожавшую, стремясь дотянуться к бумагам, поверх которых блестел крошечный серебряный колокольчик.
Пушкин, однако, отца опередил. В два шага он был у стола и, левой рукой схватив колокольчик, с силой ударил им по столу. Жалобный звук был короток, слаб; язычок оборвался. Надежда Осиповна приподнялась и села, также бледнея. Она поняла, что сын намекает па участие императора Александра в убийстве своего отца.
— Вы правы, однако, — по видимости, овладевая собою, слегка наклонился к ним сын. — Он это сделал чужими руками. Что же, припомним, пожалуй. Ведь навалилась толпа, и стояла дворцовая ночь. Я же один, и я безоружен; и, как видите, день. Да и кроме того… — тут он засмеялся, — кроме того, мне не нужно престола!
Самое страшное было, пожалуй, в этом неожиданном смехе.
— Чего же ты хочешь? — слабеющим голосом произнес отец.
— Я хотел одного. В глаза вам и матушке сказать одну только точную правду. Ничто от меня не укрыто.
И Пушкин, разгорячась окончательно, начал выкладывать все, что накипело на сердце за целых три месяца: и о том, что он будто бы развращающе действовал на брата и учил афеизму сестру; и о глупой боязни их, что его высылка может их всех погубить; и о том, как это гнусно принять на себя поручение прочитывать, а может быть, и перехватывать письма; и о визитах монаха Ионы, игумена Святогорского монастыря, — тоже товарища по слежке духовной, и о тайных с ним разговорах; и, наконец, об этой бумаге, в которой затребованы письменные сведения о его поведении и образе мыслей…
Но каждый почти из гневных его и укоряющих возгласов наталкивался на глухую стену непонимания. Отойдя от первого испуга, порой выдвигал Сергей Львович и до смешного курьезные доводы:
— Но как же, скажи, не развращаешь ты Льва и сестру, когда не дальше как в прошлый четверг я читал им Мольера, а ты вошел и сказал, перебивая отца: «Кажется, туча прошла, едем в Тригорское!»
В другое бы время Пушкин весело захохотал при таких обвинениях, но теперь было ему не до смеху, и запальчиво он возражал:
— Нет, это вы развращаете Льва, и уже по-настоящему!
— Чем это?
— А тем, что вы и его подвергаете тайным допросам: что я говорил да от кого эти письма… Вам не довольно того, что вы сами прочли письмо от Раевского? Не отпирайтесь! Я вам могу доказать.
— Лежало письмо… Я уважаю Раевских… Несколько фраз… Пустяки. А ты… когда это было?.. Да третьего дня! Помнишь, Надин? Ольга сидела в столовой, а ты проходишь вдруг мимо, стыдно сказать, в белых подштанниках…
— И тем развращаю сестру?
— И тем развращаешь сестру! А равно и своим афеизмом.
В конце концов Сергей Львович не мог отрицать одного: что предложение Пещурова было им принято.
Пушкин, помедлив, воскликнул:
— И только подумать, что вы — мой отец! Как могло это статься? Вас запугали…
Старшие Пушкины оба молчали, а Александр, уже отгорев, почувствовал, что продолжать было б напрасно. В душе его была горечь и пустота. Так долго откладывал он разговор… вот наконец он состоялся… и что же? Да ничего! Как если бы именно говорил в пустоту…
Но, прежде чем вовсе покинуть родителей, он повторил еще раз с последней внушительностью:
— Этого больше быть не должно! Я требую этого и говорю вам в последний раз.
Он хотел повернуться и выйти, по теперь, когда все миновало, объяснение прошло, — самое трудное оказалось уйти, сделать простой поворот; и ноги как бы онемели. После того необычного, что только что было, именно самое обыкновенное стало особенно трудным. Однако же Пушкин круто повел плечом и тем преодолел эту свою мороку; он вышел из комнаты, не произнеся больше ни слова.
Льва уже не было, но за дверями в коридоре ждала его Ольга. На бледных обычно щеках ее разлит был горячий румянец.
— Я останусь с тобой! Они тебя не понимают… Я останусь с тобой! — твердила она, и на глазах ее были слезы.
Пушкин сжал руку сестры; и рука была горяча. Впрочем, он мало что в эту минуту соображал. Объяснение с отцом потрясло его. Как ни мало они были близки и как ни был в раздражении Пушкин горяч, все же такой разговор сына с отцом произошел в первый раз; это было крушением всего уклада семьи, где повышали голос всегда одни только старшие. Молчание родителей глухо давило его, и оттого он даже с каким-то освобождением испустил вздох из стесненной груди, когда послышался крик отца. Ольга, совсем как тогда у Ганнибала, в испуге прижалась к нему.
— Ничего… ничего… — говорил Александр, одною рукой обнимая ее, а другой проводя сжатыми пальцами по вдруг завлажневшему лбу. — Ничего!
Было слышно, как Сергей Львович с силой толкнул у себя оконную раму. Последний и крайний испуг его возник оттого, что ему показалось, будто бы Александр их снаружи запер на ключ. Это повергло его в минутное оцепенение, и, когда оно минуло, он рванулся к окну.
— Люди! Сюда! — раздался его громогласный, отчаянный визг, и сразу же во всех концах дома послышался шум: да, поднялась беготня, как если бы в лесной муравейник сунули палку.
На кухне рубили котлеты, и ровное туканье это также внезапно замолкло, сменившись на миг тишиной, а затем громко захлопали двери: все, как видно, устремились сюда…
— Уйдем! — И Ольга насильно почти увела с собой брата.
Впрочем, им по дороге попались уже и дворовые девушки, бросившие свои кружева и вышиванья и бежавшие на дикий вопль барина, как бегут, повинуясь зову набата.
В комнату Ольги Пушкин заглядывал редко. У нее была чистота, белизна, образа; полочка книг.
— Ты не боишься? — И он распахнул настежь окно.
За окном была тишина. Все тот же нахохленный мокрый индюк, что в первое утро после приезда напомнил отца, по-осеннему никло копался в навозе.
Пушкин стоял, вдыхая прохладу и напряженно прислушиваясь ко множеству звуков, ходивших по дому и сливавшихся в общий неразборчивый гул. Но вот и опять, надо всем поднимаясь, все покрывая, послышался голос отца. Он, видимо, был теперь уже в коридоре и, верно, махая руками, кричал — прерывисто, тонко:
— Он меня бил!.. Он замахнулся!.. Он хотел вот сюда!.. Он мог бы ударить, прибить!
Пушкин не верил ушам. Самая обыкновенная человеческая злость — на трусость, на глупость, на клевету — с огромною силой охватила его. Он забыл и про Ольгу и со всей полнотою экспрессии, хоть и негромко, вдруг произнес за окно «русский титул». Это бывало с ним редко, но это всегда освежало. Однако же Ольга как будто не поняла пли не вовсе расслышала, потому что невинно она переспросила: