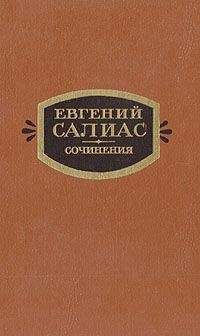Долее всех оглядывала она Фридриха Самойловича и после двух-трех вопросов, на которые белоголовый и белоглазый ямщик отвечал трусливо совсем не то, что его спрашивали, государыня едва заметно вздохнула. Будто мысленно порешила она что-то грустное. Зато еще ласковее взглянула она на Карла Самойловича. С Христиной царица переглянулась как со старой знакомой, просто и добродушно, и заметила, что Енрихова помолодела со времени их свидания в Риге.
Наконец Карл Самойлович после представления трех сынов, Антона, Мартына и Ивана, и двух крошек девочек разыскал в другой горнице сильно смущенную дочь и подвел Софью к царице. Государыня широко раскрыла глаза, двинулась и вдруг радостно воскликнула, протягивая Софье руку:
– Вот хорошо… Lieber Gott![2] Как я рада! Ах, как я рада. Как это хорошо!
Софья поцеловала второй раз протянутую ей руку и зарумянилась от радости.
Что означало это восклицание, вырвавшееся как бы невольно у царицы, никто, конечно, знать не мог. Но Карлус и Софья сердцем почуяли, что это восклицание много значит. Долго царица глядела на смущенную Софью и молчала.
– Да ведь она на меня похожа!.. – выговорила она наконец, обращаясь к Карлусу. – Очень похожа на меня… Как я этому рада… Поцелуй меня.
И государыня с чувством обняла и поцеловала несколько раз в лицо совершенно потерявшуюся от волнения девушку.
– Да, совсем похожа!.. – шептала государыня, и голос ее упал тоже от волнения и прилива чувства.
У Софьи появились на глазах слезы от восторга и трепета. Она сама теперь увидела, что она как родная дочь похожа на русскую царицу.
– Она у меня красавица… – промолвил с гордостью Карл Самойлович. – Ее у нас в деревне прозвали давно Яункундзе, что значит…
– По-латышски? Знаю! – улыбнулась государыня. – Меня так звала прислуга. Да, красавица ты, Софья. И я была такая!.. Я на тебя гляжу как в зеркало! Это я… Я – какая была в то время… Я хороша была!..
Но вдруг Екатерина смолкла, подняла руку к лицу и провела ею по глазам, где блеснули тоже крупные слезы.
Софья плакала от того, что смутно рисовалось ей в недалеком будущем, благодаря ласке царицы…
Она, царица, заплакала от того, что промелькнуло вдруг в ее воспоминаниях то далекое прошлое, давно пережитое, но вечно милое… Сразу восстали в ее памяти те светлые и дорогие дни, когда она была военнопленной, рабой русских войск, звалась Мартой Василевской и впервые встретила молодого и статного офицера московского войска именовавшегося Петром Михайловым… Она полюбила его не зная, кто и что он…
Государыня, вполне овладев собой, подавила в себе невольную грусть и снова, пытливо и ласково вместе, заговорила с Софьей.
Карл Самойлович тотчас вставил свое словечко, возымевшее в один миг огромное значение и повлиявшее, быть может, на всю судьбу его дочери.
– Она недавно обучилась русскому языку, – сказал Карлус. – А то прежде знала только несколько слов. В Риге и здесь обучилась. Да и зараз двум языкам обучилась. И по-немецки тоже болтает…
– По-немецки? Ты говоришь по-немецки? – сразу оживившись, воскликнула государыня и, взяв Софью за руку, потянула к себе ближе.
– Да, немного… – пролепетала Софья.
– Но понимаешь все хорошо?..
– Да, понимаю…
– Ты можешь все говорить и все понимаешь? – быстро произнесла государыня уже по-немецки.
– Да. И по-немецки мне как-то легче говорить, чем по-русски! – отозвалась Софья на том же языке.
И немецкая беседа с царицей продлилась несколько минут.
Государыня оживляясь и с видимым удовольствием стала расспрашивать девушку о Риге, о их долгом путешествии. Софья отвечала подробно и два раза рассмешила царицу своими остроумными замечаниями.
Чрез полчаса императрица простилась со всеми и вышла из дому, но вслед за ней вышла и села вместе с ней в тот же рыдван наскоро собранная в путь Софья Карлусовна.
– Ты будешь жить со мной, около меня и называться фрейлиной… – сказала государыня, увозя свой двойник. – Фрейлиной ты будешь для всех! А я тебя стану звать Яункундзе. Это слово будет напоминать мне Крейцбург и мое детство.
В Петербурге, которому еще не было и двадцати пяти лет существования, были уже хорошие каменные дома. Неподалеку от дворца, где жила императрица и который помещался между густым садом и лугом, в противоположном конце этого обширного луга стоял другой большой дом, уже выходя на берег Невы.
Дом этот принадлежал иностранцу, офицеру русской службы, адмиралу фон Крюйсу.
Большое здание неправильной формы отличалось от соседних домов своими размерами и в особенности высокой угловой башней, или каланчой, со шпицем, на котором развевался адмиральский флаг. В этом же доме была единственная церковь, в которую могли прийти помолиться многочисленные иностранцы, уже переполнявшие новую столицу-порт.
Осенью 1726 года, когда «оная фамилия» была уже давно на Стрельнинской мызе, дом этот был куплен казной у Крюйса и в нем началась перестройка, а затем деятельная работа внутри, по всем горницам двух этажей. Дом отделывался на казенный счет, богато и роскошно. Несколько «голландок», то есть печей, фигурных и блестящих пуще белого мрамора, приехали для этого дома на кораблях из Амстердама. Маленькие печурки и камельки приехали цельными, а большие, конечно, в изразцах. Вместе с тем с кораблей же появилась и будущая обстановка дома: мебель, зеркала и всякая утварь.
Все, в эти времена заводившееся в Петербурге, приходило из-за моря и получалось в это только что прорубленное «окно» прямо из Европы… Попасть самому, благополучно съездить или послать купить было гораздо легче по морю, чем по суху. Достигнуть до берегов Немеции, Дании, Швеции было гораздо удобнее, вернее, спокойнее и дешевле, чем по непроходимым топям, трясинам и болотам добраться до столицы Российской империи. Да там, в Москве, и не найдешь в продаже ничего такого, что нужно для обстановки богатого дома.
У тамошних бар и сановников есть, конечно, все, но все это руками их крепостных делается и вахляется ловко и искусно, но для себя, а не на продажу.
К концу 1726 года дом, за которым надолго осталось в народе имя его первого владельца: «Крюйсов дом», был готов, стоял и сиял, являясь взорам обывателей «с иголочки».
Сюда-то вот под самое Рождество и приехал поезд, состоящий из нескольких возков и саней… Он привез целых три семейства, которые разместились в богатом доме.
Но настоящий хозяин этого дома был собственно один из приезжих – господин Карл Самойлович Сковоротский. Ему подарены были на словах эти палаты самой государыней.
Когда все приезжие вошли в дом и вступили в длинную анфиладу гостиных, где повсюду блестела позолота, где навстречу к ним вышли вереницы лакеев и гайдуков с низкими поклонами, все члены «оной фамилии» оторопели. Они молчаливо двигались, останавливались, молча толклись на одном месте гурьбой и опять, не проронив ни слова, двигались далее…
По всем комнатам навстречу им появлялись и двигались какие-то кучки людей, мужчин и женщин, с детьми, и все в темном дорожном платье, с угрюмыми или сильно смущенными лицами. Эти кучки скользящих людей казались привидениями…
И не все члены «оной фамилии», а только Анна и Марья Сковоротская тотчас сообразили, кто это или что это ходит в доме около них такой же кучей, как и они сами.
Дирих робел более всех, даже более детей, встречая по всем горницам этих странных обитателей дома, потому что он видел и понимал, что это не живые люди, да, кроме того, несмотря на полусумрак вечера, он хорошо разглядел в этой скользящей кучке одну страшную фигуру… Такого же Дириха, как и он сам. И однажды тот Дирих, близко подойдя к нему, так глянул на него, что этот пугливо отскочил в сторону… Но и тот мгновенно тоже спрятался в кучку своих…
Достигнув горницы, где были кровати, на которых висели с потолка занавеси, «оная фамилия» разместилась как пришлось… «Где уж тут рассуждать, кому куда идти… Завтра видно будет. Утро вечера мудренее!»
Один Карл Самойлович весело и даже важно оглядывал все горницы. Ему, уже побывавшему во дворце у царицы и дочери, были не диковиной ни золотые кресла, ни стенные зеркала, из которых глядел на него гордо и самодовольно «цара бралис», то есть царский брат. Впрочем, господин Карл Самойлович Сковоротский в качестве трактирного служителя видал уже подобное зеркало, хотя сравнительно и маленькое, на постоялом дворе в Вишках.
Плохо проспав ночь на новом месте, сугубо и стократ «новом» для всех трех семейств – все члены «оной фамилии» уже более бодро и смело обошли наутро весь Крюйсов дом сверху донизу.
Пока «оная фамилия» содержалась в Стрельне, в столице, конечно, знали об ее приезде и местопребывании. Но так как все они содержались в сокровенности и так как царица была в Стрельне только один раз, при соблюдении строжайшего инкогнито, то в Петербурге толковали о приезжих с осторожностью, боясь, что беседы о них будут сочтены «государственным враньем».