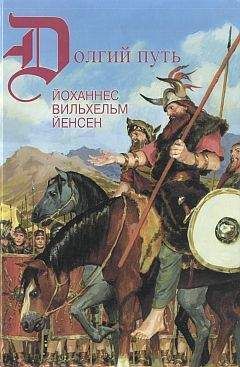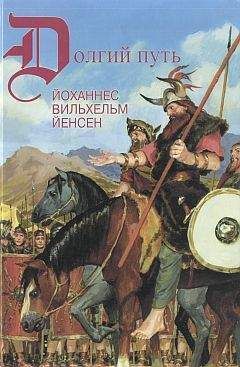Это совершилось в день 7 ноября 1520 года.
Но тот, кто все держал в своей руке, кто собрал все эти неукротимые головы и воспользовался ради своего королевского дела талантами, злостью и коварной изощренностью честолюбивых умников, он в этот час сидел один в своей комнате, покуда слуги делали за него то, что следовало совершить.
Миккель Тёгерсен видел короля: Кристьерн сидел за столом, расправив плечи, едва касаясь стула выпрямленной спиной; он казался черным, как сажа, на фоне горящего позади камина. Миккель внес в комнату свечи. Он увидел лицо короля, оно было полно напряжения и одновременно расслаблено; у него было лицо человека, который, собрав все силы, готовится принять давно исполненное решение.
Люсия, дитя сумерек… А ведь она была молода! Она была падший ангел; одним словом — человек. У нее были сросшиеся над переносицей брови, сумрак отметил ее чело своей печатью — знаком нетопыря.
Смеяться Люсия не умела и только невесело ухмылялась, как бессловесные существа, которые в знак ли привета или предостережения одинаково скалят зубы. Лишь изредка она смягчалась, и тогда ее улыбка напоминала сентябрьский день в Дании, когда беспечные птицы стаями резвятся в воздухе, но блеклые осенние цветы стоят тихо, умудренные иным предвиденьем. Увы, Люсии не исполнилось еще двадцати лет, а груди ее уже начали обвисать, и, как ни грустно, они были жестки, словно рано опавшие плоды.
Порой Люсия напевала отрывок какой-нибудь песенки, но радоваться не умела. Она ничего не могла другого, как только падать и опускаться, словно она тонула в морской пучине, погружаясь на дно. Она выбрала такую жизнь по доброй воле, и потому в ней чувствовалась какая-то пугающая, бесчеловечная холодность; однако, невольно и неведомо для нее самой, все ее существо выражало простодушное недоумение, она напоминала навозного жука, который свалился на спину в дорожную колею и барахтается в ней, старательно перебирая лапками, делая последние шаги, пока его не раздавит проехавшее колесо.
Но были в эту ночь мгновения, когда Люсия сияла, облеченная царственным величием греха. Сумрачное ее чело озарялось ореолом неутолимого желания и ужаса, душа ее вспыхивала в безумных блуждающих очах, подобно взору крестоносца, узревшего, как пышным цветом пробились вкруг святого креста на его груди роскошные гроздья кроваво-алых роз.
Аксель задремал.
И снилось ему, что он неуклонно соскальзывает в иной — половинчатый, расплывчивый — мир; он сидел на берегу моря, и рядом была Сигрида, ему снилось, что на него напала неодолимая дремота. Он все-таки встал и, шатаясь, побрел, чтобы приготовить постель, и долго боролся с волнами, укладывая их и разглаживая, а одну — белоснежную — взял вместо подушки, но как ни старался, все уплывало у него из-под рук: только схватится за кончик простыни — глядь, она уже плеснула в руках и растеклась, и нету ее… дольше всего он пытался управиться с непослушными подушками, но в конце концов бросил.
…А немного погодя Аксель и Сигрида отлетели от земли. Вот они постояли, паря в воздухе, и Сигрида взяла его за руку. А потом они полетели далеко и высоко-высоко, но сонному Акселю все казалось, что надо лететь дальше и выше в небеса, и мнилось ему, что где-то на краю света есть нечто такое, что они должны увидеть. Они летели уже долго, и вот Сигрида начала уставать, ее полет отяжелел, и она стала жаловаться, и тут оба обрушились вниз. Аксель проснулся. Он снова засыпал и снова видел чудеса, а проснувшись, не мог их припомнить.
— Покажи, есть ли у тебя родинка, чтобы мне по этой отметине узнать тебя в аду, — стал просить уже полубезумный Аксель на рассвете.
Люсия засмеялась стыдливо, она чуть не плакала от счастья, и показала ему рубцы, которые остались у нее после наказания плетьми; шрамы оплетали ее спину, точно бледные камышинки, и, как камышинки, оканчивались вверху коричневой шишкой в том месте, где кожу целовал грубый узел кнута.
…И опять Аксель не заметил, как сомкнулись его вежды, и снова он летал, но уже один. Стоя во весь рост на воздухе, он летел по улицам Стокгольма вровень с нижними краями крыш, прижав к бокам локти, словно бегун; его поддерживала на лету какая-то внутренняя сила, и он плавно и сильно стремил свой полет. Пустынные улицы настороженно замерли в сумеречном свете; далеко впереди, в глубине глухих переулков, шевелятся какие-то тени и бегут без оглядки прочь; но в тех местах, над которыми он пролетает, ему не попадается ни одной живой души. Горит и пламенеет золотом желтое небо, словно лелея блаженную тайну.
Вдруг в конце улицы вырастает поперек его пути стена высокого дома; Акселю становится страшно, как бы не разбиться о мрачную преграду, какие-то лица смутно маячат в оконных проемах; напрягая все силы, Аксель успел круто взмыть вверх, он легко переносится, через конек крыши, чуть-чуть не задев за него. Дальше он уже парит низко над землею, цепляя ногами за ветки и макушки деревьев. Но внезапно он опять преисполнился силы, и воля стремит его вверх, все выше, а небеса стали еще глубже и еще ярче горят золотом, он круто взлетает ввысь и повисает выше всех колоколен невесомой пушинкой среди чистого, вольного воздуха.
Летит Аксель, а внизу, глубоко под ногами бесшумно ходят волны в морской купели, прямо под собой он видит плывущий корабль и тревожно соображает, куда лежит его путь и сможет ли он в своем полете встретиться с кораблем. Ему чудится, будто лишь крайним усилием он направляет полет к желанной цели, хотя, казалось бы, и летит туда, куда хочет, по собственной воле. Но вот он благополучно опустился на палубу.
То был корабль счастья.
На носу корабля стоит дикарь и смотрит вперед, позабыв все остальное на свете, он весь — взор, устремленный в туманы моря; плывет корабль, с волшебной легкостью кланяясь на волнах.
Это Колумбов корабль счастья. Вот сам капитан потонувшего судна стоит у руля и, всматриваясь мертвыми глазницами в компас, держит курс на юг; справа и слева стоят рядом с ним два нагих лесных гнома, от ветхости оба сочатся ядом. И паруса на реях, надутые ветром, тонки, как паутина, их проницает сияние звезд.
На корме в высокой каюте, на палубе, в трюме — везде, в каждом углу ждут женщины со всех концов света; всяких тут есть по одной, каких только можно найти в самых разных краях земли. Много там белых, от юных и тонконогих с едва обозначившейся грудью до жен пышнотелых, у которых от тяжелых юбок загрубели коленки; от барышень беленьких, отмытых до скрипа, до девок простых, деревенских, с дыханием молочно-парным, чьи мощные руки шершавы, покрыты пушком и увесисты, словно дубинки. Есть там смуглянки дерзко-невинные, есть женщины огненно-рыжие с ножками снега белее. Есть царственные пунцовогубые негритянки, украшающие стройные, угольно-черные бедра ожерельями из тигриных зубов; арабские девы — тонкие, гибкие, как леопарды; роскошные красавицы, взращенные в богатых польских усадьбах; миниатюрные создания из срединной Азии, нежные, как цветы; и островитянки из Южных морей, которых не видел еще ни один европеец.
Все они разнятся между собой — ростом, годами, сложением, — подобно тому как не сходны они нравом своим и мышлением. Одна с безмятежной улыбкой напрямик говорит все, что подскажет ей мудрое сердце; другая, с ясным, веселым лицом, — в душе затаила печаль; одни явными недостатками готовы хвалиться, другие ходят потупив очи и стыдятся своей безупречной стати. Есть одна — кособока слегка, потому что и без нескладных нельзя обойтись на корабле счастья; одна — не совсем бела; другая полнотой удивляет, чрезмерно раздавшись в боках; зато и хрупкие девицы есть на корабле счастья. По отдельности вряд ли какую можно назвать совершенной, но лишней нет ни одной; и все это множество вместе близко уже к совершенству. На корабле счастья все они равны, ибо пленительна каждая.
Плывет по морю корабль счастья, с волшебной легкостью кланяясь на волнах. Корабль счастья. И Аксель во сне на нем побывал. И чувствовал близость Сигриды.
Но тут он внезапно проснулся, и оказалась у него — Люсия.
Солнце давно уже встало, на площади спесиво и звонко пропели трубы.
— Ничего, — пробормотала сквозь сон Люсия, — просто трубы трубят, — и, поворочавшись с закрытыми глазами, легла поудобнее.
Но Аксель встал и отворил окно. Выглянув, он увидел стоящих в два ряда солдат с алебардами, их строй тянулся через площадь от замка до дверей ратуши. Кроме солдат на площади не было ни души. А у дверей ратуши…
— Поставили эшафот! — сказал Аксель и отошел от окна. Подхватив одежду, он торопливо натянул ее на себя. Люсия перевернулась на спину и, окончательно пробудившись от сна, безмолвно следила за ним глазами. Аксель вышел из комнаты и спустился вниз.
Скоро он вернулся. Входная дверь была заперта, и ему сказали, что герольды недавно объявляли, чтобы стокгольмцы сидели по домам и не выходили за порог.