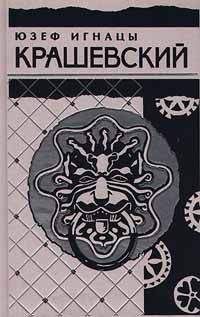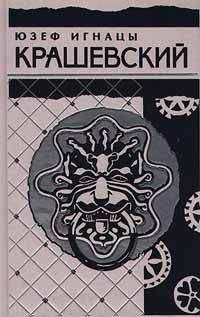Принарядившись тщательнейшим образом, ротмистр в новой нейтычанке отправился в Дендерово. Правда, с того времени, как разнеслась весть о плохих делах графа, графиня значительно постарела в глазах ротмистра, кокетство ее повытерлось; но не менее того, ум ее и то уважение, которым она пользовалась в целом околотке, делали победу чрезвычайно привлекательною. Без сомнения, в этом было более собственного самолюбия, чем любви, но сколько сильных страстей только на самолюбие и опирается!
Приятно было взглянуть на экипаж и упряжку ротмистра, все как с иголочки! Нейтычанка не была просто тележкой, какие употреблялись когда-то под этим названием, но чем-то изящным, словно игрушка, вылакированная, обновленная, блестящая, до того хорошенькая, что, казалось, не употреблять надо, а только смотреть на нее. На рессорах, с опущенной будкой, с цветными фонариками и коврами, обитая сукном и шелковой материей, она была похожа на колясочку и столько же стоила. Дело в том, что ротмистру как молодому человеку неприлично было ездить в коляске, а в нейтычанке позволялось. Четверня серых коней в яблоках, казалось, четверня родных братьев, хотя купленных на разных ярмарках, рвалась из краковских хомутов с бело-красными платами. На козлах сидел простой мужик, преобразившийся в краковца. В упряжке, в экипаже и лошадях виден был бывший военный: так все это содержалось хорошо и с таким знанием дела все было подобрано. Подле кучера сидел мальчишка, разодетый венгерцем и остриженный под гребенку.
Пока ротмистр выбрался, пока доехал, пока пробрался Дендеровской греблей, уже наступили сумерки; он остановился у корчмы, здесь надел надушенный фрак и, окончательно поправив волосы, направился к господскому дому. Нужно было ехать около самого сада, калитка из него выходила на большую дорогу; минуя ее, пан Повала увидел графиню, которая выглядывала и, казалось, звала его; он вышел и, отославши лошадей по волынскому обычаю в корчму, приветствовал графиню весьма печальной миной. Печаль ротмистра можно было растолковать различно.
Графиня была одна, одна прохаживалась по саду, будто поджидала ротмистра. Пан Повала мог сильно возгордиться этим, ибо кто же бы на его месте не принял это за знак рождающейся привязанности, особенно после первых объяснений? А он именно на этом остановился с графиней.
Одетая в черное платье, изысканно, но к лицу, она была встревожена и грустна, может быть, потому, что знала, как идет ей грусть. Она приветствовала ротмистра значительной улыбкой и протянула ему по-английски руку, долго потом с особенным значением не отнимая ее. Руки их сплелись горячим пожатием.
— Простите, что я звала вас, это совершенное безумие, — сказала она тихо и как бы ослабевшим голосом, — но мне так необходимо было утешение, я так грустила и страдала… Чувствую теперь, что я поступила, как дитя…
— Так это называется ребячеством?
— А! Если еще не хуже! Что же сказал бы свет?
— Что я приехал на чай, что встретил вас в саду… Ничего не может быть естественнее.
— Пойдемте, пойдемте!..
Но хотя и собирались они идти, однако, нисколько не спешили; ротмистр расчувствовался и решительно не знал, как ему поступить; графиня задумывалась; они сделали несколько шагов, остановились и молчали.
— Вы знаете о наших хлопотах? — произнесла тихо графиня со слезливым взглядом.
— Не знаю. Слышал что-то, но никто не мог объяснить мне обстоятельно, а вранья много.
— Муж мой, кажется, потерял очень много через свою неосторожность.
— Так это правда?
— Увы, правда! И потеря эта может повлечь за собой и другие, весьма значительные.
Ротмистр подумал в эту минуту о своих тридцати тысячах, струхнул: не повлекло бы и их; он несколько остыл. Графиня, кажется, не знала об этих деньгах, потому что, хотя Смолинский и упоминал о них, она не обратила внимания. Наступило опять молчание.
— Кто знает, может быть, на время я принуждена буду уехать из Дендерова. Эта мысль, — прибавила она с театральным жаром, — мысль эта мучит меня больше всего…
— Могу льстить себя надеждою, — отозвался по-солдатски ротмистр.
Она только взглянула на пана Повалу, и красноречивый вздох окончил, чего не договорил язык.
— Кто знает, — прибавила она, — может быть, уже не скоро увидимся.
Это был очевидный вызов на чувствительное прощание. Ротмистр, почтенный человек, хотя умел любить только по-военному и первый раз впутался в роман подобного рода, почувствовал какое-то совершенно новое для него волнение; он искал слов для выражения своих чувствований и найти их не мог, и, что еще хуже, не знал, следовало ли быть смелым или только расчувствоваться и как кончить, чтобы это было прилично хорошему тону.
— Поверьте мне, — произнес он наконец, собравшись с духом, — что я страдаю при этом больше; но этого не может быть, этого не может быть, вы не уедете.
— Это будет зависеть от него, он решит это.
Он, как всегда, был муж; дамы весьма деликатны и иначе, как местоимением, не вспоминают о муже в присутствии обожателя.
Они шли к дому, но тихонько, так, нога за ногу. Графиня была так меланхолически взволнована и так ослаблена чувством, что беспрестанно хватала руку ротмистра, чтобы опереться на нее; наконец на первой скамье скорее упала, чем села, под бременем чувства. Скамью эту окружала тенистая беседка. Затруднительность положения ротмистра увеличивалась с каждым шагом; он решительно не знал, что ему делать, как утешать, как высказать свои ощущения. Французские романы и военные воспоминания приходили ему в голову и сбивали его с толку; он положился наконец на произвол судьбы.
— Это настоящее безумие! — шептала потихоньку графиня. — В моих летах такая преступная любовь, такая страстная и такая безнадежная.
(Ротмистр, — взывал французский роман, — пали страстным ответом).
— Всегда есть надежда, — произнес ротмистр, послушный вдохновению, прижимая к губам ее руку.
(Так советовали воспоминания).
— Какая надежда? — спросила неосторожно графиня.
(Роман шепнул):
— Неописанная, невыразимая, но есть.
(Воспоминания присоветовали подвинуться и выразительно, с жаром, пожать руку).
— Для преступных! — воскликнула графиня.
— Преступление только с моей стороны, — говорил роман устами ротмистра.
— Нет, нет! Я стократ больше виновата! Превосходнейший из мужей… Обманываю превосходнейшего мужа; но есть страсти непобедимые… и именно такова моя. Передо мною только пропасть, и я лечу в пропасть; если б хоть взаимность была мне наградой.
Все это объяснение было так выразительно, что кто-нибудь другой на месте наивного ротмистра, отуманенного недавним чтением старых романов, не нуждался бы в комментариях; но наш Повала впал в чистую сентиментальность и отделался только восклицанием:
— Сударыня, так вы сомневаетесь в моем чувстве! Если так-должен ли я поклясться, чем я должен доказать… ах!
Говоря это, он, в подражание героям старых французских романов, кинулся глупейшим образом на колени и, сложив руки к торжественной клятве, уже собирался произнести ее, как в дверях тенистой беседки явился муж, граф Сигизмунд-Август Дендера.
— Браво, ротмистр! — сказал он с ударением. — Браво! Благодарю тебя, что ты так хорошо утешаешь жену; продолжайте старую комедию, я не мешаю.
Когда графиня, крикнув, лишилась чувств, он подошел к ротмистру и прибавил:
— Беги за водой, приводи ее в чувство, это твое дело, и потом приходите пить чай, я велел уже подавать.
И с улыбкой Мефистофеля неожиданный свидетель исчез, как явился, незаметно, тихонько, скромно.
Как явился граф, нетрудно объяснить. Торопился он домой для того, чтоб вытащить из Сломник то, что можно вытащить, и ему самому только возможными средствами поддержать кредит и общественное мнение. Он был на пригорке, возвышавшемся над окрестностью, когда ротмистр подъезжал к господскому дому; он велел придержать лошадей, решившись сделать сюрприз жене и ротмистру, и через минуту после поклонника шмыгнул той же самой калиткой в сад. Остальное мы уже знаем. Муж слышал весь разговор, даже и известный эпитет: «превосходнейший из мужей», который рассмешил его. Кто же из жен, которые изменяют, не честит мужа этим чувствительным эпитетом? Сколько раз даже ангелом, называется муж перед обожателем именно в такую минуту, когда все доказывает, что не мешало бы любить другого? О, неразгаданное сердце человеческое, о, мы слабые, бедные существа!
Положение ротмистра и графини было выше всякого описания… Первый, сбитый с толку хладнокровием мужа, опять не знал, что начать; другая, лишившись чувств для вида, обдумывала, что должно ей делать. Отлично разыгрываемая комедия в продолжение целой жизни лопнула на этой мелодраматической сцене. Графиня колебалась, уехать ли ей сейчас к матери, просить ли извинения у мужа или держать себя смело и решительно и нахальными упреками отвечать на выговоры? Ротмистр в простоте сердца приводил в чувство графиню, тогда как сам нуждался в помощи, потому что был словно помешанный. Едва стала она открывать глаза, как граф, сделавший несколько шагов, воротился опять к ним.