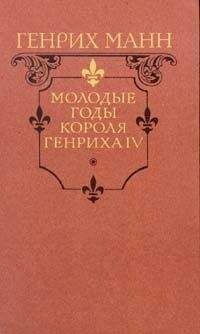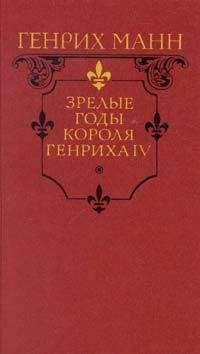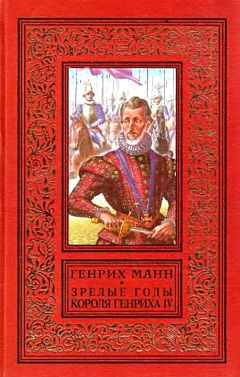Генрих, сидя в седле, протянул руку, взял поданное ему письмо, однако и не подумал вскрыть его; напротив, рука его бессильно повисла, он опустил голову и сказал среди великой тишины раскинувшихся вокруг просторов с затерянной в них горсточкой людей, сказал вполголоса: — Моя дорогая матушка умерла. Четыре дня тому назад. — Он обращался к самому себе, остальные это ясно почувствовали. И они сделали вид, что не слышат, — пусть сообщит им вслух; бережность и чуткость выказали даже самые отчаянные буяны. Наконец новый король Наваррский прочел письмо, снял шляпу, и все тоже сняли; и тогда он сказал им:
— Моя мать, королева, скончалась.
Иные из его спутников переглянулись, на большее они не отважились. Подобное событие не из тех, с которыми легко примиряешься: оно влекло за собой величайшие перемены; перемены ждут и их самих, но какие, они еще не знали. Жанна д’Альбре воплощала для них слишком многое, и она не смела умирать. Она вела их вперед и кормила их. Она помогала им добывать хлеб, который растет на пашнях, и хлеб вечной жизни. Наши свободы! Жанна д’Альбре добилась их для нас! Наши крепости — хотя бы Ла-Рошель на берегу океана — она их для нас завоевала! Наши молитвенные дома на городских окраинах! Она их сохранила; мир в наших провинциях, наши женщины, возделывающие поля под покровом господним, пока мы скачем на конях в ратное поле и бьемся за веру, — всем этим была Жанна д’Альбре! Какая же судьба постигнет нас теперь?
Эта мысль сменилась ужасом, затем гневом, и сейчас же неудержимо вспыхнуло подозрение, что кто-то в этом повинен, что тут действовала рука преступника, ибо столь великое несчастье не может совершиться само собой. Покойница мешала сильным мира сего, и вполне ясно, кому именно. В этом растерявшемся отряде люди понимали друг друга без слов, у них были одни и те же мысли и чувства. В толпе слышались отдельные бессвязные возгласы, как будто их издавал спящий, лишь постепенно они становились громче, сливались в гневный ропот, угрожающе нарастали; и наконец из кучки гугенотов вырвались слова, словно кинжал, выхваченный из ножен, словно кто-то их произнес со стороны, другой вестник, незримый: — Королеву отравили!
Все наперебой стали повторять их, каждый произносил вслух, как бы вслед за незримым вестником:
— Отравили! Королеву отравили! — И сын умершей повторил их вместе со всеми, и он получил эту весть, как остальные.
И тут произошло нечто неожиданное: юноши протянули друг другу руки. Они не сговаривались, но это была клятва отомстить за Жанну д’Альбре. Ее сын схватил руки своих друзей — дю Барта, Морнея и д’Обинье. С Агриппой он объяснился, сжав его пальцы и как бы желая сказать: «Вчера поваленная лестница, возня с женщинами, а сегодня вот это. В чем же мы можем упрекнуть друг друга, в чем раскаиваться? Такова жизнь, и мы пройдем через нее рука об руку». И своего слугу д’Арманьяка, которого он перед тем так разбранил, Генрих тоже взял за руку. В это время чей-то голос начал: — Явись, господь, и дрогнет враг!
Сначала пел один Филипп дю Плесси-Морней, ибо среди всех он был наиболее склонен к крайностям: в его душе обитала слишком неугомонная добродетель. Но когда он повторил первую строку, к нему присоединилось еще несколько голосов, а вторую уже пели все. Они спешились, молитвенно сложили руки и пели — горсточка людей, которой не видел никто, кроме, быть может, господа бога, — ведь ему они и воссылали этот псалом; пели, как будто звонили в набат, воссылая ему псалом!
Явись, господь, и дрогнет враг!
Его поглотит вечный мрак.
Суровым будет мщенье.
Всем, кто клянет и гонит нас,
Погибель в этот грозный час
Судило провиденье.
Они допели до конца, потом смолкли, ожидая слова своего юного вождя. Ведь он стал королем Наварры здесь, на этой чужой проезжей дороге, и должен им сказать, куда теперь ехать, что делать. Дю Барта наклонился к Генриху, проговорил вполголоса: — Ваша мать погибла первой. Вторым будете вы сами. Поверните обратно!
— Соберем наших единомышленников! — посоветовал ему Морней. — Ревнители истинной веры сбегутся к вам со всего королевства. Мы двинемся на этот преступный двор, и никто нас не одолеет.
Д’Обинье же сказал гораздо спокойнее:
— Вам нечего бояться за себя, государь, пока жив хоть один из этих людей… — Эти люди смотрели на него, и он продолжал: — Старик пожертвовал ради нашего дела всей своей жизнью, я знаю, я слышал, что говорил ночью адмирал своей супруге. — И точно он был ясновидцем, Агриппа стал повторять слова Колиньи, сказанные им жене.
Так как д’Обинье был поэтом, он мог поведать о ночной беседе супругов так, будто сам присутствовал при ней:
— Уверена ли ты, что никакие испытания не могут тебя поколебать? — спрашивал Колиньи супругу. — Положи руку на сердце, проверь себя, останешься ли ты твердой, если даже все отпадут и тебе придется с позором, который обычно идет вослед за неудачей, удалиться в изгнание? Смотри! Даже король Наваррский готов отступиться — он женится на родной дочери той, кто наш главный враг.
Тут уж Генрих не выдержал. Он вскипел: — Не мог адмирал этого сказать! А если ты, Агриппа, считаешь, что мог, значит, лжет твоя муза! Я тверд в нашей вере… А теперь едем дальше!
Но этого-то и хотел Агриппа, считая, что спокойных убежищ на свете нет, и чем больше его внутреннее прозрение открывало ему опасности человеческой жизни, тем решительней поэт устремлялся вперед.
Всадники снова двинулись в путь под затянутым облаками небом. Но вскоре дорогу им преградили какие-то люди с воздетыми руками. И все твердили одно и то же: «Королеву Жанну отравили». Однако никто не мог объяснить, откуда это стало известно. Под конец всадники уже перестали спрашивать, кто они, из какой деревни. Достаточно было того, что они идут бог весть сколько времени, чтобы увидеть нового короля Наваррского и поведать ему то, что они знают. Многие уже так устали, что их первоначальный гнев угас и они в страхе бормотали, как заклинание, те же зловещие слова.
Даже на самых беззаботных искателей приключений подобные встречи оказывают свое действие. А тут произошла еще одна, решающая. На лесной опушке они неожиданно столкнулись с дворянином — неким Ларошфуко, все его отлично знали, он был другом их короля. И этот дворянин тоже имел измученный вид человека, проскакавшего в четыре дня путь, на который нужно пять. Всего несколько слов сказал он юному королю, но Генрих сейчас же натянул поводья и повернул обратно. Тогда повернул и весь отряд и, ни о чем не спрашивая, в глубоком молчании возвратился в Шоней.
Приехав туда, Генрих прежде всего отыскал уединенное тенистое местечко под сенью тополей и приказал Ларошфуко, гонцу его матери, в точности все ему поведать. Последние земные мысли умирающей Жанны перед тем, как ее дух вознесся к богу, были о сыне. Она не хотела, чтобы он из страха отказался от своего путешествия: об этом и речи не было. Однако она продолжала считать, что в Париж он должен явиться только как сильнейший.
Ее совет был подсказан опытом последних месяцев, а этот опыт был тяжел и горек. Она полагает — и чтобы высказать эту мысль, королева еще раз нашла в себе силы для своего необычного голоса, похожего на звон колокола, — что свадьба ее возлюбленного сына послужит началом решающих событий, но они могут стать решающими либо для него, либо для его врагов. Последние ее помыслы были мужественно устремлены навстречу всем опасностям жизни и на то, как их победить. Были времена, или ей казалось, что были, когда порок все же пугливо прятался от людских глаз. А сейчас — так велела она передать своему Генриху — он дерзко поднял голову и глумится над добродетелью. Затем, уже в предсмертные минуты, она, обращаясь к богу, произнесла слова псалма:
Явись, господь, и дрогнет враг!
Последний вестник извлек ее завещание и, коснувшись его губами, вручил королю. Однако в нем она не обмолвилась ни словом о своих сокровеннейших тревогах, ибо под конец не доверяла даже бумаге. Она поручала заботам Генриха его бедную сестренку. И тут Генрих, наконец, зарыдал, — он еще не пролил ни одной слезы.
Сквозь слезы он то и дело восклицал: — Бедная сестренка! Так назвала ее наша мать! — И сердце подсказало ему: «Она должна быть здесь! Мы же одни на свете! Ничего и никого нет у брата и сестры, кроме друг друга! Все остальное — обман души и зрения, все эти женщины, и возвышенные чувства к ним, и страх, как бы ни одной не упустить! А на самом деле я всегда упускаю только одну, и каждый раз — только ее! У нее мне еще никогда не приходилось просить любви или искать понимания. Мы с ней дети одной матери, и нам нечего таить друг от друга. Говорят, у нее мой смех. А сейчас она плачет теми же слезами, но даже эти слезы, которыми она оплакивает нашу мать, не упадут на мои руки. Она далеко, она всегда от меня далеко, и мы не едины в нашей высшей скорби — ее и моей!»