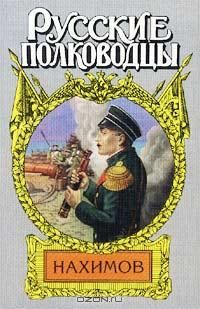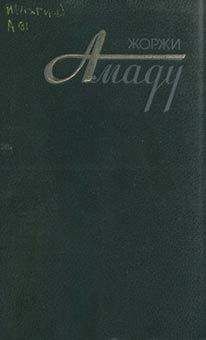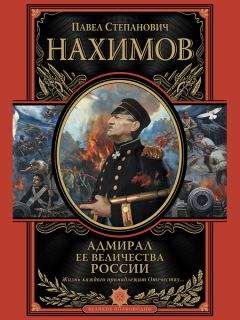Нахимов вспыхивает, резко поднимается, оправляет темляк палаша. Из полутьмы, как на древней медали, выступает его решительное лицо с широко расставленными глазами, высокими скулами и сжатым ртом.
– Выходит, мичман, что мы с вами победу одержали без матросов?
Путятин неловко смеется. Головы офицеров с любопытством поднимаются на лейтенанта. Что это он? Чего вспылил?
– Лавры Кодрингтона и графа не собираюсь приписывать ни себе, ни вам, пытается шутить Путятин.
– Но Павел Степанович заслужил лавры! – горячо вмешивается Корнилов. Я лично у него в долгу.
– Не в том дело, Владимир Алексеевич, – тихо и вразумляюще говорит Павел. – Я отвечаю господину Путятину потому, что он презирает наших служителей… Я скажу, что "матросня" – слово обидное и подлое. Страху на мгновение поддалась горстка людей, но затем дралась со всеми вместе геройски, по-русски. И всегда матрос лихо сражается… Конечно, если офицер исполняет роль руководителя и воодушевителя… А момент паники законно возник… План сражения вице-адмирала Кодрингтона был из рук вой скверный. Никакого плана по существу не было-с. План стоянки в гавани, не больше-с. Исправили этот план команды соединенных эскадр мужеством и умением своим. Самое замечательное для нас, господа, в сегодняшнем дне, что русские матросы дрались не хуже, а может, и лучше опытных английских моряков.
Он поворачивается и уходит в темноту.
– Да, – задумчиво говорит Анжу, – нашим матросом можно гордиться. Но разгадать его трудно. Он – крепостной, а мы баре.
Лейтенант Бехтеев с "Александра Невского" пренебрежительно цедит:
– Слюнтяйство, либерализм. В британском флоте ничего не разгадывают, лупят матроса, – на здоровье! – даром, что завербованные и свободные люди.
Глава пятая. Первое командование .
От закатного солнца бьет красный луч в бумагу. Тринадцать листков мелко исписаны для далекого друга Михаилы Рейнеке. В письме и журнал плавания, и грустная' история Саши Домашенко, и подробный рассказ о Наваринском сражении. Впрочем, не совсем подробный. О своем мужестве и находчивости Павел Степанович, конечно, умолчал. О неприятном презрении молодых офицеров к героям-матросам тоже не написал. Ни к чему это делать в письме, которое будет доставлять любопытный господин маркиз Траверсе.
Однако что-то еще обязательно хотелось сказать? Ну конечно, о Михаиле Петровиче! Что он чрезмерно, по-английски жесток в службе и барствен с матросами, Павел Степанович думает по-прежнему. Но нынче об этом вспоминать не хочется. Зато есть превеликое желание похвалить за командирское самообладание и уменье.
Павел Степанович обтирает перо и пишет на новом листке: "О любезный друг, я до сих пор не знал цены нашему капитану. Надобно было на него смотреть во время сражения, с каким благоразумием, с каким хладнокровием он везде распоряжался. Но у меня недостанет слов описать все его похвальные дела, и я смело уверен, что русский флот не имел подобного капитана.
Прощай еще раз, не забудь преданного тебе
Павла Нахимова".
Повертев в на льдах перо, он приписывает: "Желаю тебе счастливо кончить свою опись Белого моря. Да, уговор дороже всего: письма моего не показывать никому, потому что я наделал так много ошибок, что самому совестно, а времени имею так мало, что, ей-богу, некогда даже прочесть. Прощай".
Теперь эпистолярная вахта, как пошутил забегавший Корнилов, окончена. Остается запечатать послание в конверт и занести к маркизу в соседний номер гостиницы, и пора на службу, в док.
Не без удовольствия Павел Спепанович надевает белый сюртук с капитан-лейтенантскими эполетами и пристегивает кортик. Пальцы касаются ленты георгиевского ордена, и радость пронизывает, как некогда в Архангельске. Эту ленту нашивала Эми, мисс Эми, младшая дочь адмирала Кодрингтона.
– Прелести этой англичаночки, кажется, примирили нашего строгого Павла Степановича с флотоводческими недостатками ее папаши, – иронизирует Путятин.
Павел Степанович этого шепотка о себе не знает. Подобно большинству скромных влюбленных, он считает свое чувство надежно спрятанным от чужого глаза.
Улица Лавалетты, усаженная пальмами, серебристыми оливками и пряными белыми акациями, еще не остыла после дневной жары, но оживлена по-вечернему. Почти каждый прохожий с итальянской экспансивностью приветствует русского офицера. Впрочем, возможно, и по знакомству. С приходом в Лавалетту здешние англичане и мальтийцы непрерывно устраивают для русских гостей и героев празднества. Вечерние балы у губернатора и высших чинов сменяются приемами у негоциантов и дворян Мальты. На каждой кавалькаде, в загородных виллах, на каждом пикнике у моря, при всяком посещении дружественных кораблей и домов, при визитах к милым дамам и прогулках с ними в лавки – кого-то представляют, к кому-то ведут знакомиться.
Перед кривым, сбегающим к порту переулком Павла Степановича окликает компания офицеров. Они идут развлекаться и укоряют в нарушении товарищества.
– Да что ты, дежурный?
– Не справится с поверкою твоей роты квартирмейстер?
– Или развод на работы изменен?
Попеременно Павел Степанович бросает смущенные взгляды на Рыкачева и Корнилова, на братьев Истоминых. И решение идти в док ослабевает.
– Там стучат, колотят, красят. Грязно, пыльно. Вымажешься еще, продолжает Рыкачев.
– Но куда же вы собрались?
– Мы еще не выбрали, Павел Степанович, – улыбается Корнилов, и огонек в глазах освещает его красивое сухое лицо. – Вам, как старшему, предоставляем решать. Сегодня мисс Кинтерлей поет в "Семирамиде".
– В "Севильском цирюльнике", – поправляет старший Истомин.
– Можно, однако, пойти к античной мистрисс Грейг, – продолжает Корнилов.
– Или к очаровательной кокетке, леди Понсонби. Там открытый бал, предлагает Рыкачев.
– Господа, в военном совете первое слово принадлежит младшему. Я с опозданием предлагаю обойтись без Женщин. Отправимся к Викари.
Владимир. Истомин вспыхивает под насмешливыми взглядами офицеров.
– Фи, в трактир! – морщится Корнилов.
– Сначала в трактир, – немедленно соглашается ветреный Рыкачев. – У Владимира губа не дура, даром, что молодой мичманок. У Викари дочери похожи на лукавых героинь пьес Гольдони: черноглазки, красотки. И там сегодня синьора Ипполита, прелестнейшая танцовщица.
В трактире за соседним столом группа офицеров "Альбиона", такая же беспечная молодежь. Шумно сдвигают оба стола. Русские и англичане соревнуются в заказе вин, отпускают комплименты прислуживающим компании девицам Викари. Но сосед Павла Степановича, английский лейтенант, как и сам он, пьет немного. Под общий веселый гул они тихо беседуют.
– Нас сдружил Наварин, но он же, кажется, и поссорит, – неожиданно говорит англичанин.
– Почему? – удивляется Нахимов. – Разве имеются разногласия в отношении к греческому народу?
– Каннинг умер, а наше новое правительство не радо "несчастной" победе под Наварином. Наши дипломаты считают, что Наваринское сражение нарушило равновесие на Средиземном море. Не удивляйтесь, в моей стране мало кто гордится своим великим поэтом Байроном и меньше всего тем, что он был до конца своей жизни преданным другом греков. Лейтенант медленно скандирует:
Встревожен мертвых сон – могу ли спать?
Тираны давят мир – я ль уступлю?
Созрела жатва – мне ль медлить жать?
На ложе – колкий терн; я не дремлю;
В моих ушах, что день, поет труба,
Ей вторит сердце.
Павел Степанович слушает и мысленно отвечает на скорбь и страсть английского поэта словами стихотворения, слышанного от Дмитрия Завалишина:
Я песни страшные слагаю,
Моих песней не петь рабам…
Я в первый раз взял в руку лиру,
Славянско племя, пробудись:
Услышь мой глас, вооружись,
Воспрянь от сна и ободрись,
Яви себя великим миру…
Англичанин исподлобья смотрит на собеседника. Очевидно, русскому доступна поэзия. Он заставил офицера думать…
– Эти стихи я знаю в списке. Они не напечатаны, и, может быть, не скоро их услышит английский народ.
"У них тоже на свободное слово запрет", – отмечает в памяти Павел Степанович и разливает в глиняные кружки вино. Но, усмехаясь, говорит о другом:
– Так у вас боятся нарушить равновесие? Видимо, такая боязнь издавна влекла ваше правительство к захватам. Вот и этот остров добровольно отдавался под покровительство России, и тогда Нельсон завладел им, чтобы в гавани не появился флаг адмирала Ушакова. Вы знаете это?
– Не совсем так, – мягко говорит англичанин, но раскуривает трубку и, поставив локти на стол, приготовляется слушать.
– Потом, для равновесия, ваше правительство заявило права на освобожденные тем же Ушаковым Ионические острова и способствовало уничтожению опекавшейся нашим адмиралом Республики. Или это тоже не так?