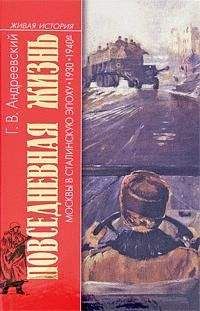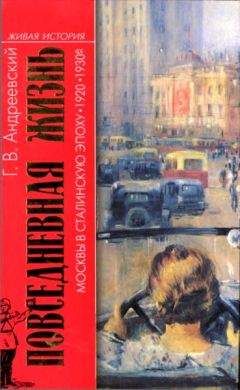В больницах и госпиталях работали санитарками и санитарами люди, командированные московскими предприятиями.
А на предприятиях, где было возможно, люди работали на оборону. Там, где делали, например, игрушки: голубые «ЗИСы» и желтые вагончики электричек, – стали делать гранаты.
В июле 1941-го в Москве стали формироваться группы самообороны жилых домов, учреждений и предприятий. Одна такая группа создавалась на 200–500 человек населения. Если дом был большой, то такую группу должен был организовать каждый подъезд. Группы охраняли общественный порядок во время бомбежек и при ликвидации их последствий. Участники групп носили красные нарукавные повязки с надписью «МПВО». У командиров звеньев повязки были красные с синей полосой, а у начальников групп на красной повязке – две синие полосы.
Команды ПВО существовали и на предприятиях, и в учреждениях, и в учебных заведениях.
На улицах Москвы появились так называемые «слухачи». Они слушали небо через три звукоуловителя, похожих на граммофонные трубы, только большие. «Слухачи» обнаруживали приближение немецких самолетов. Относились они к службе «ВНОС» – воздушного наблюдения, оповещения и связи.
Над городом повисли аэростаты. Они вспыхивали, когда в них врезались вражеские бомбардировщики. По ночному небу, в поисках самолетов, шарили прожекторы.
А вообще, надо сказать, что бомбежек москвичи особенно боялись только первое время. Постепенно они к ним привыкли, научились по звуку отличать наши самолеты от немецких «хейнкелей», «юнкерсов» и «фокке-вульфов». Они уже не хватались за голову, не лезли под кровати, заслышав гул самолета. Даже болеть, как это ни покажется странным, москвичи стали меньше. То ли нервное напряжение помогало, то ли диета, то ли просто людям было не до болезней. Повысилась жизненная активность и у психически больных людей. Некоторые из них под влиянием войны так мобилизовались, что стали совсем как здоровые. Ипохондрик Губерман, например, который до войны был безразличен к окружающему и докучал врачам жалобами на свое здоровье, стал ремонтировать замки, часы, конструировать всякие штуки. Он даже стал интересоваться политикой, чего раньше за ним никогда не замечалось. Ну а когда в армию призвали работавших в психиатрических больницах истопников, слесарей, электромонтеров, хозяйственных агентов и прочих, их место заняли больные. Некоторые из них просто ушли на производство. Один склеротик стал сторожем на СВАРЗе, другой, шизофреник, стал работать на продовольственном складе, а третий перестал жаловаться на головные боли и превратился в хорошего столяра. Но самых больших высот достиг страдающий шизофренией Захаров. Он стал народным судьей в Москворецком районе. В больнице он, правда, не лежал, а в 1942-м, вернувшись с фронта, где получил контузию, выучился и стал судьей. Но вот однажды вечером, 10 июля 1949 года, на Ваганьковском кладбище его задержала милиция. Оказалось, что он ограбил и пытался изнасиловать женщину. Захаров не отрицал своей вины и оправдывался только тем, что преступление совершил на территории другого района, а не своего, Москворецкого. Только теперь, когда следствие провело судебно-психиатрическую экспертизу обвиняемому, стало известно, что Захаров заболел шизофренией еще в детстве, ну а после фронта заболевание его обострилось. Ему стало казаться, что кругом шпионы, а когда он шел по улице, то позади него какой-то голос тихо и нервно говорил: «Берегись!» Он тогда весь как-то сжимался, ему становилось страшно, и он осторожно оглядывался, но произносившего это слово не видел. Решив, что немцы отравили в Москве воду, он перестал дома пить чай, а мочиться стал исключительно в вазы и графины. И все-таки, несмотря ни на что, ему удавалось скрывать свою болезнь. Бдительность тогда только поощрялась.
Профессор психиатрии Краснушкин указывал на привыкание большинства людей к опасности. «Первые воздушные тревоги, – писал он, – первые налеты немцев на Москву загоняли москвичей в бомбоубежища, именно первые налеты давали наибольшее количество психических реакций и провоцировали психозы. Очень скоро у москвичей образовался иммунитет в отношении воздушных налетов и бомбежек, и в самое их горячее время, октябре и ноябре 1941 года, многие пользовались бомбоубежищами все меньше».
Людей можно было понять: бомбоубежище не самое приятное место. Да и могли ли спасти от хорошей бомбы простые подвалы? А ведь именно они, как правило, отводились под укрытия, бомбо– и газоубежища.
Их, конечно, как могли, приспосабливали под убежища: потолки подпирали стойками, оборудовали «сануголки», помещения штукатурили и белили, заделывали окна, подгоняли двери, чтобы они плотно закрывались, делали «лазы». В убежищах, согласно инструкции, один унитаз приходился на восемьдесят человек. В убежищах, не имеющих канализации, устраивались так называемые «пудр-клозеты», которые потом выносились.
Некоторые москвичи хранили в бомбоубежищах свои вещи, опасаясь, что они могут погибнуть при воздушном налете.
Власти города требовали от домоуправов, чтобы они следили за техническим и санитарным состоянием бомбоубежищ. Когда стало известно о том, что домоуправ Носков бомбоубежище не запирает, что в нем грязно, поломаны полки и стеллажи, то Носкова арестовали и дали ему два года.
Но даже в тех бомбоубежищах, где домоуправы следили за порядком, было невесело. Представьте помещение на 150–250 человек: двери плотно закрыты, окна замурованы, отчего не только душно, но и влажно, постоянно работают «пудр-клозеты», пищат маленькие дети, охают старухи. К тому же темно или почти темно. Кому же захочется идти в бомбоубежище?
Далеко не все укрытия гарантировали спасение от фугасных бомб. Такие бомбоубежища иногда становились «братскими могилами» для тех, кто искал в них спасения. Когда бомба попала в один из домов Проточного переулка, погребенных под его обломками в бомбоубежище людей так и не спасли. Для того чтобы расчистить завал, не было ни техники, ни сил, ни указаний начальства. Другой «братской могилой» стало бомбоубежище, устроенное под железнодорожным пакгаузом Белорусского вокзала. Там тоже завалило людей, и никто им не смог помочь. Со временем Москва вообще отказалась от всяких «бомбоубежищ», кроме метро.
Профессор Покровский на страницах «Вечерней Москвы» учил москвичей, не спрятавшихся в бомбоубежище, как им укрываться от фугасных бомб. Звук падения бомбы, писал профессор, опережает ее падение на две-четыре секунды, и этого времени достаточно, чтобы успеть прыгнуть в канаву, в яму или хотя бы просто лечь на землю. Шансов уцелеть при этом у человека становится вдвое больше. От осколков стекол, по мнению профессора, хорошо укрываться в подъездах. А главное, это отличить звук падающей бомбы от звука летящего вверх снаряда зенитной артиллерии. (Очевидно, для того, чтобы лишний раз не прятаться и не падать.) Разница этих звуков состояла в том, что звук бомбы менялся от низких тонов к высоким, а зенитного снаряда – от высоких тонов к низким.
Да, хорошо было тем, кто в мирное время изучал сольфеджио. Им было легче отличить бомбу от снаряда.
Но не только обороняться и прятаться учили москвичей газеты. Они советовали, как добывать, сохранять, экономить, одним словом, приспосабливаться к новым условиям жизни.
Прежде всего надо было беречь тепло и энергию. Мосгорисполком запретил использовать электроэнергию для обогрева жилища. Экономия электричества шла и за счет освещения. Парикмахер на своем рабочем месте мог использовать лампочку мощностью не более двадцати пяти ватт, для мест общего пользования предназначалась лампочка в шестнадцать, а для кухонь – двадцать пять ватт. Появились новые плакаты, призывающие беречь электроэнергию, а газеты обращались к москвичам с такими словами: «… Если Ваш сосед по квартире забыл погасить вовремя маленькую лампочку мощностью всего в 25 ватт, не считайте это мелочью, не проходите спокойно мимо бесцельно горящей лампы. Помните: она расходует электроэнергию, необходимую для выпуска оружия и боеприпасов».
Пока над головами москвичей висел дамоклов меч поражения, иронизировать по этому поводу им как-то не хотелось.
В январе 1942 года газета «Московский большевик» учила москвичей экономить керосин. «Вскипяченный чайник, – рассказывала газета, – в течение двух часов может оставаться горячим. Для этого его нужно плотно завернуть в газету, а затем в одеяло. Можно сделать термос в виде деревянного ящика с двойными стенками, пространство между которыми заполнить опилками, соломой, бумагой, ватой. В таком термосе „доходят“ щи, которые обычно варят на керосинке два-три часа. А тут щи закипели, поставил их в термос, а через два-три часа еще раз прокипятил и все – щи готовы».
Тем, кто печатал на машинке, «Вечерняя Москва» в апреле 1942 года объясняла, как обновлять «копирку», то есть копировальную бумагу для пишущей машинки. Для этого «копирку» достаточно подержать над печкой, лампой или просто спичкой. А исправить изношенную ленту для той же машинки можно, положив ее перед уходом с работы в коробку с ватой, пропитанной керосином. Утром лента будет готова к печати.