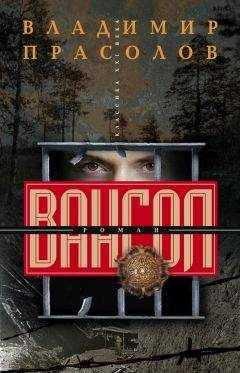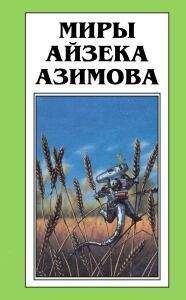— Нет, Москва, зона не скурвилась, Седой всё правильно вёл, и законы соблюдались. Мужики рот стали открывать, пайкой недовольны стали, вот Седой и решил постоловаться вместе с ними, проверить, любил он сам всё смотреть. Пока, говорил, сам не пощупаю, не поверю, что кто-то законную пайку режет.
— Ну и что? Пощупал?
— Не успел, его в этот день и завалили.
— Татарин, а ты где был? — Москва пристально посмотрел на него.
— На разборке. Фраер один рамсы попутал, пришлось слегка поучить, — ответил Татарин, не выпуская изо рта папиросу.
— Вот что, Фрол, займись столовкой, что да как. Татарин, опроси братву, кто что видел, слышал, вечером соберёмся. Мне помозговать надо. Слышал, хозяин в лагере новый, немец, братва говорит, из Сибири, надо и про него проведать, чем дышит.
Москва встал, набросив на себя меховую душегрейку, вышел следом за Фролом в барак.
— Так на чём мы остановились прошлый раз, Егор Иванович? — допив чай, спросил Битц Прохорова.
Тот, отставив кружку, взглянул в глаза начальника колонии и, видно не увидев в них и намёка на издёвку, покачал головой:
— Чего неймётся-то тебе, майор, неужели задумался, неужели зацепило тебя моей правдой? Ты здесь хозяин, в твоей власти судить и миловать, так принимай решение, мне за такие посиделки с тобой ответ в бараке держать придётся, сам знаешь, кто в лагере правит.
Альберт Генрихович, слушая Прохорова, карандашом что-то нарисовал на листе бумаги и, когда тот замолчал, придвинул ему этот лист.
— Есть хорошая русская сказка про богатыря, который стоял на распутье, выбирай сам, Прохоров.
Битц встал из-за стола и, закурив папиросу, стал медленно прохаживаться по кабинету. На листе бумаги Прохоров увидел что-то вроде схемы, в центре — кружок, в котором была вписана его фамилия. Стрелочка влево упиралась в кружок с надписью «ГПУ», и дальше холмик с крестом.
Стрелочка вниз упиралась в кружок с надписью «секретный сотрудник», и дальше холмик с крестом. Стрелочка вправо упиралась в кружок с надписью «Битц», и дальше стоял большой вопросительный знак.
— Я думал, у меня есть только два варианта. Чтобы сделать выбор, вы должны объяснить мне значение третьего. — Прохоров внимательно смотрел на Битца, продолжавшего прохаживаться по кабинету.
— Если я разъясню значение третьего варианта, а ты, Прохоров, не согласишься, то единственным вариантом для тебя останется четвёртый — пуля в голове при попытке побега через пять минут после того, как ты выйдешь из моего кабинета. Из этой схемы тебе ясно, что ты волен выбрать ГПУ, после чего тебя расстреляют, но имей в виду, заберут и тех, кому адресовано было письмо, и твоих родных тоже, это первое. Можешь выбрать долю сексота, рано или поздно, если тебя не зарежут, ты сам наденешь на себя петлю, поверь, я в этом уверен, это второе. Значит, я тебе предлагаю что-то другое, не связанное с НКВД. Единственное, что я могу тебе сказать сейчас, — это то, что твоя совесть перед твоими внуками будет чиста при выборе третьего варианта. Так что выбирай, Прохоров, даю тебе на раздумье сутки. Но эти сутки ты проведёшь один, в карцере. — Битц вызвал конвой и, дав необходимое распоряжение по Прохорову, вызвал к себе Макушева.
После отбоя Фрол и Татарин сидели в каптёрке у смотрящего, попивая чифирь, Фрол тихо рассказывал:
— С месяц назад, когда заваруха была, всех начальников под белы ручки на правило увезли, в лагере сменили начпрода. Новый старлей откуда-то с Кавказа, Давлаев, поменял всех поваров и служек, все чёрные, бля! Они, суки, пайку мужикам резать стали, чёрные в седьмом бараке жируют. Седого, сквозь зубы, уважали, на рожон не лезли, а как Давлаев появился, борзеть стали. Без предъяв, без спроса недавно мужика зарезали. Опера затаскали, а мы и впрямь не в курсах, в общем, беспредел пошёл. Татарин, что там Гнилой базарил, выкладывай.
Татарин, играя желваками на скулах, затянулся и, погасив папиросу, сказал:
— Всё одно к одному, видели чёрных в столовке, выскакивали через кухню, когда шухер по Седому поднялся, Гнилой в мусорке ковырялся, успел присесть, они его не видели. Веры старому пидору на разборке всяко не будет, а так всё ясно, кажись, Москва. Глушить надо сук за Седого.
— Сколько чёрных в лагере, под кем ходят? — спросил Москва.
— Душ триста в двух бараках, ходят под Ашотом, погоняло у него Казбек, — ответил Фрол.
— Татарин, вызови его на разговор завтра в обед, в столовой, — сказал Москва.
— О чём говорить, Москва, всё ясненько и так, резать их надо всех.
— Не ори, Татарин, я зоны не зря топчу, надо до конца разобраться, ты его спокойно, вежливо пригласи, скажи, Москва пришёл, познакомиться хочет с братвой. Пока никаких предъяв, понял меня?
— Понял. Сделаю, как ты сказал. — Татарин, пожелав доброй ночи, вышел.
— Фрол, собери десяток надёжных людей, сядьте перед встречей так, чтобы из их барака ни одна мышь незамеченной не проскочила. Увидишь, если сразу толпой пойдут, дашь знать. И валите к столовой, прямо сейчас поставь на догляд. Я всё должен знать и днём и ночью, кто с ними дела имеет.
Отправив Фрола, Москва, не раздеваясь, прилёг на кровать, приглушил керосиновую лампу и задумался. Много повидал на своем веку Виктор Вианорович Смолин, больше четверти века по лагерям да ещё по царским тюрьмам. Это была его жизнь, он не представлял себе другой, да и не хотел что-либо менять в ней. Вот уже десяток лет, как он «коронован» на питерском общаке, и не раз приходилось ему решать непростые лагерные споры. Последние годы весь гнев праведный по лагерям обрушился на новую категорию зэков, врагов народа, а их, матёрых уголовничков, как бы и перестали прессовать по-чёрному. По крайней мере, без особой нужды не ломали законников и не мешали жить по воровским законам. Были случаи, когда в лагерях тупоголовые опера с хозяином пытались натравить уголовку на политических, но где он присматривал за братвой, этого не случилось. Москва считал любое сотрудничество с операми и хозяином недопустимым для честных воров и всякий раз разгадывал их замыслы. Сейчас он думал о том, не дело ли рук хозяина — убийство Седого. Подставить чёрных под ножи для каких-то своих целей? Не может быть, он только вошёл в лагерь, его и в лицо-то толком никто не видел. Всё началось при старом хозяине, или этот новый начпрод действительно своим кавказским братьям поддержку пообещал, те и стали крыльями бить от восторга. Ладно, утро вечера мудренее. Смолин затушил лампу и лёг спать. Он всегда быстро и крепко засыпал, но спал ровно столько, сколько сам себе назначал. Проснуться в полшестого, сказал сам себе Москва и провалился в сон.
Лагерь спал, спали заключённые в бараках, спали охранявшие их собаки в вольерах, не спали только вертухаи, часовые на вышках, да дежурный офицер боролся со сном в дежурке, то и дело накручивая ручку полевого телефона и донимая по очереди часовых на вышках. Прожектора ровным неподвижным светом освещали пятиметровый коридор между двумя рядами колючей проволоки и четырёхметровым забором, отгораживающим один мир от другого. Трудно было понять, в каком из этих миров жилось легче и спокойней человеку.
Не спали ещё двое: в карцере ворочался на деревянных нарах Прохоров, никак не находя себе удобную позу, а может быть, потому, что он, пытаясь логически всё осмыслить, никак не мог понять, что предлагает ему начальник лагеря. В какую игру он собирается с ним играть? Может, послать его, и дело с концом? Он представил себе, как люди в штатском ночью разбудят его жену и она, прижав к себе ребёнка, будет с ужасом смотреть, как они переворачивают всё вверх тормашками, обыскивая их комнату в коммунальной квартире. Как придут к его школьному другу и ещё ко многим, кого он знал и любил. Нет, это не выход. Лучше просто пулю в голову при попытке побега, если третий вариант для него будет неприемлем. Приняв решение, Прохоров успокоился и уснул, чтобы утром, проснувшись, ещё раз на свежую голову попытаться разгадать игру Битца.
Не спал и Битц. Он принял решение и теперь боялся допустить ошибку, уж очень велика была степень риска в его игре. Он ещё и ещё раз просматривал дело Прохорова, внимательно вглядываясь в его фото, искал и не находил даже малейшего признака, который оправдал бы его опасения. Нет, он не ошибался, Прохоров подходит для его целей как нельзя лучше. А задачи у майора были очень серьёзные и долговременные, и поставлены они ему были в Москве, когда он, ожидая назначения, ненадолго заехал к жене. Они с Вероникой жили врозь уже много лет. Юная революционерка, влюбившаяся когда-то в Битца, помотавшись с ним по лагерям, забеременев, уехала рожать к матери в столицу, где и осталась. Редкие её приезды всегда были праздником в первые дни и заканчивались лёгкой ссорой, после чего она уезжала, и только несколько месяцев спустя приходило её первое письмо, в котором она великодушно прощала своего «котика» и писала о своей любви к нему, обещая уже скоро снова приехать.