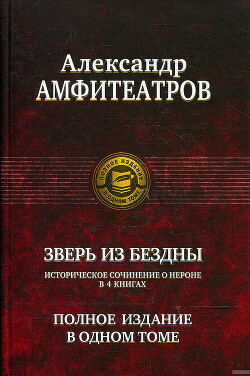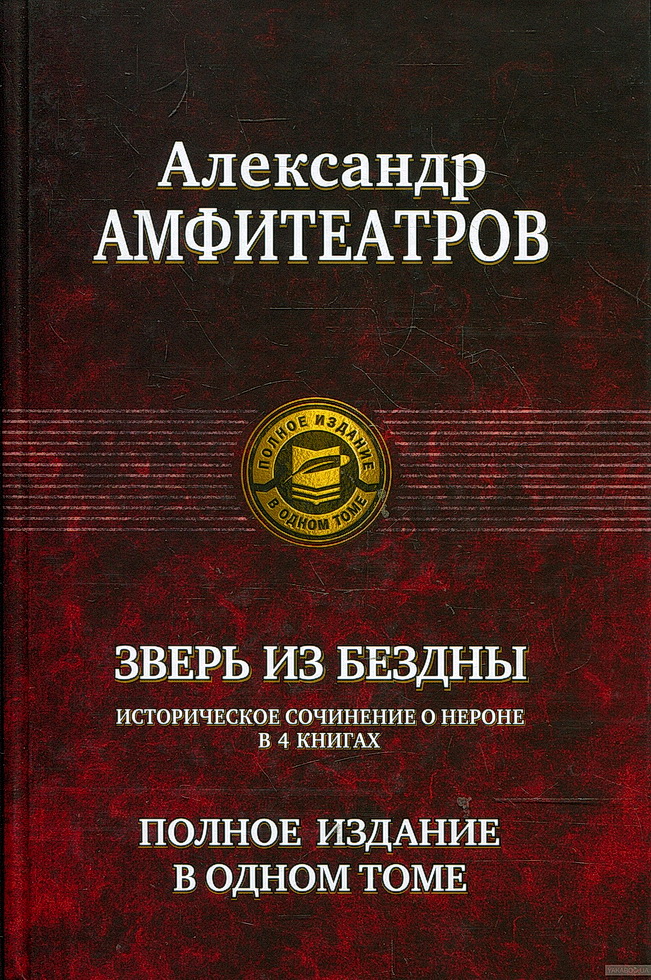Имеем ли мы право заподозрить священную летопись, доведенную последним стихом своим до 63 года, почти что к самой эре римского пожара и предполагаемого Неронова гонения, в некоторой тенденциозности изложения фактов, в предвзятом романофильстве, в стремлении возвысить «языки», просвещенные апостолом Павлом, над косным и фанатическим иудейством, его отвергнувшим? Я думаю, что такой тенденции не может быть в книге, приписываемой преданием евангелисту Луке, свидетелю и участнику из св. Павла, современнику гонения, если было таковое. Легенда, соединенная с авторским именем, должна комбинировать это имя и свое содержание в психологическую вероятность. Человек, переживший ужасы несправедливого преследования, может простить своим врагам, но вряд ли в состоянии, да и не имеет нравственного права выставлять их своей пастве лучшими, чем они суть на самом деле: это значило бы рекомендовать овцам волков, как надежнейших заступников в бедах, — легкомыслие, невообразимое в авторе двух священных книг, благоговение к которым издревле обще всем христианским церквям и почти что современно самому христианству. Можем ли мы сейчас вообразить себе, чтобы какой-либо еврей, переживший кишиневский погром, писал с уважением и аттестацией справедливости и законности о правительстве фон-Плеве? Мыслимо ли, чтобы армянин, переживший неистовства курдов, относился с мягкостью и одобрением к режиму Абдул-Гамида и изображал хорошими людьми его пашей и офицерство «гами- диэ”? Или — чтобы армянский же епископ написал апологетическую историю «голицынского режима» на Кавказе? Если же, паче чаяния и возможности, романофильская тенденция в «Деяниях» все-таки существуют, и оказалось вполне удобным соединить ее с авторским именем, священным в памяти первых христиан, то приходится либо изумиться прочности ее, пережившей даже ужасы Нерона, либо предложить, что ужасы эти были не так уже грозны, как сложилась о них впоследствии легенда, и на евангелиста они особенно сильного впечатления не произвели.
Итак, обозрение канонически документированных легенд христианского писания доказательно устанавливает, что:
1. До 64 года христианство находило в правительстве римском и представителях его, от конвойного офицера до военного министра и главнокомандующего императорской гвардией включительно, очень широкую принципиальную терпимость, а иногда даже защиту и покровительство.
2. Исключения из этого правила были редки и возникали лишь под сильным давлением господствующей иудейской церкви; перед глазами закона или имевшего силу закона международного обычая римского подобные случаи являлись правонарушениями, вмешательством в дело чужой компетенции, почему допускались только дурными чиновниками, слабодушными, как Пилат, либо мздоимцами, как Феликс, или же имели характер судебной либо административной ошибки.
3. Все частно возникавшие отношения между христианскими учителями и римскими воинами и чиновниками, не исключая даже Пилата и Феликса, носят неизменный отпечаток доброжелательства вторых к первым, иной раз даже большего, чем наоборот — первых ко вторым.
Желая в вопросе столь важном и щекотливом остаться на почве источников, исключительно общепризнанных в христианском мире, я остерегусь, покуда, подтверждать выводы богатыми данными апокрифической литературы, с ее материалом, часто спорным хронологически и, еще чаще, чересчур сектантским. Тем более, что в «Арке Тита» мы с материалом этим будем иметь детальную встречу. Достаточно указать, что христианство второго и третьего века, сложившее легенды и апокрифычения ап. Павел написал «Послание к финикийцам», с знаменитыми свидетельствами, что власть приобрел друзей о Христе в преторианских казармах (I. 13) и в дворне цезаря Нерона (IV. 22); что, вообще, обстоятельства его процесса «послужили к большому успеху благовествования» (I. 12); что видимая снисходительность римских властей к узнику ободрила многих «с большей смелостью безбоязненно проповедывать слово Божие» (I. 14). Апостол совершенно уверен в счастливом исходе своего дела (I. 25). Единственная черная сторона его положения, — что некоторые христиане злоупотребляют проповедью «по зависти и любопрению», излагать веру «не чисто», с коварным расчетом «увеличить тяжесть уз» Павловых (I. 15, 16). Понимай: разрушить то доброе согласие, которое до сих пор держалось между апостолом и римской властью, представить его в глазах последней опасным сектантом — злоумышленником. Таким образом, речь идет о политическом провокаторстве: если не самого Павла, слишком умного и осторожного, чтобы впасть в ловушку, то друзей и поклонников его (I. 17); кто-то наталкивал компрометировать себя в римских глазах, как организацию лицемерную, втайне неблагонадежную. Сознанием опасности провокаторских усилий проникнуто все послание, особенно в первой части своей, представляющей, — как было выяснено исторической критикой, — отдельное письмо, впоследствии механически соединенное с другим в одно целое. Но и во второй апостол со слезами умоляет христиан не увлекаться теми, кто отклоняет их от религиозного миросозерцания: «Их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме: они мыслят о земном. Наше же жительство — на небесах» (III. 19, 20). Подлинность второго послания к Тимофею сильно оспаривается; некоторые считают его историческим романом древнего христианства. Но, если и так, оно красноречиво, как навеянное посланием к филиппийцам, как его естественное продолжение. Роман или нет, оно рассказывает, что старания враждебной апостолу агитации возымели свое действие, правда, покуда еще не на римский суд: он-то еще раз явил Павлу равнодушную терпимость и дал ему «избавиться от львиных челюстей» (2 Тим. IV, 17). Запугано агитацией общественное мнение иудейской среды, в которой вращается Павел: быть близким в апостолу стало почитаться опасным, друзья изменяли ему, раздражались. Послания изображают автора в одинокой и горькой отброшенности. «Все азийские оставили меня, в числе их Фигелль и Ермоген» (1.15). «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику» (IV. 10)... «При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили. Да не вменится им!» (IV. 16). Бодрость, идейность и оптимистические упования не покидают апостола (IV. 18), но он смущен и уязвлен своими одиночеством, ему представляется, что близости с ним не только опасаются, но и стыдятся.
«Не стыдись меня, узника Христова», — увещевает от Тимофея (1.18). Некто Онисифор из Эфеса, прибыв в Рим, навестил апостола. Узник говорит об этом визите с глубоким и трогательным волнением: «Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день» (I. 16—18).
Итак, второе послание к Тимофею рисует нам ап. Павла хотя не побежденном, но временно разбитым бойцом, прекрасно сознающем свое тяжелое положение в цепях враждебной интриги. Он чувствует, что энергия недоброжелателей сильнее противодействия, которое в силах оказать он, одинокий, покинутый. «Александр-медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, так как он сильно противился нашим словам» (IV. 14, 15). На этот раз усилия Александра-медника и партизанов его погубить апостола остались тщетными, но Павел знает, что эти люди не обескуражены первой неудачей и рано или поздно добьются своего: предубеждение против Павла уже посеяно, Павла уже боятся и стыдятся, — стало быть, недалек час, когда он останется вовсе без средств к защите и погибнет. Оппозиция ему настолько сильна в этот момент, что, в выгодах своего дела, он рекомендует своим ученикам как можно большую пассивность поведения, как можно меньше словесных столкновений и состязаний (II. 14, 23—26. Титу III. 9). Сейчас — ему страшно всякое обострение, могущее возникнуть в христианской общине, потому что успех окажется не на стороне его партии: враги его «еще более преуспеют в нечестии, и слово их, как рак, будет распространяться» (2 Тим. II. 16, 17). Наступают тяжкие времена разложения общины, с победой людей «имеющих вид благочестия, силы же его отрекшихся» (III. 1—9), «все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы; злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь”; «здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух к басням» (IV. 3, 4). Словом: сейчас не наше время, надо притихнуть, переждать, пока «сих безумие обнаружится перед всеми» (III. 9). Все это — завещание вождя партии своему преемнику; на себя самого Павел смотрит, как на конченного человека: «Исполняй служение твое, ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало... Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный Судья в день оный» (IV. 6,8). И — в одном из тех величественных лирических подъемов, которые силой глубоко сознательного убеждения и захватом искренности были всегда так могуче победительны в нем, привлекли к нему и покорили ему так много человеческих сердец, — апостол как бы чертил для своей будущей гробницы ту вдохновенную эпитафию-характеристику, которые в веках стала неразрывна с мыслью о нем, и, когда называют апостола Павла, она первая встает в каждой памяти: