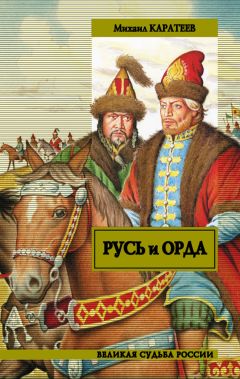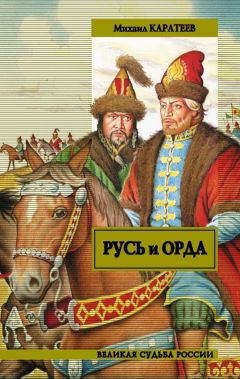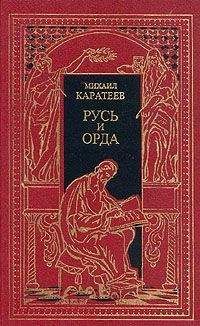— Дня два либо три дам отдохнуть коням, а там и поеду, князь.
— Добро. А завтра жду тебя на обед. За трапезою еще побеседуем.
* * *
На обеде у князя, кроме членов его семьи, присутствовали трое бояр, из которых один был очень стар, а два других казались ровесниками Ивана Мстиславича. Стол был не изыскан, но обилен, и хозяева потчевали радушно. Истинным его украшением служила сама княгиня Юлиана Ивановна, которой было уже за тридцать, но казалась она моложе и блистала свежестью и красотой необыкновенной. Прелестны были ее серые глаза с поволокой неги, но особое обаяние всему облику княгини придавали ее пышные, пепельно-русые волосы, которых она не прятала под повойник, как это было принято у русских замужних женщин того времени. Польские обычаи уже сказывались в этих краях.
Приглядевшись к княжне, Карач-мурза увидел, что и она на редкость хороша. Ей еще не было и четырнадцати лет, и она не успела развиться в женщину, но лицом походила на мать, и, глаза у них были одинаковые, впрочем, только на первый взгляд: у матери они излучали больше тепла, а у дочери больше света.
«Не одно сердце, наверно, сожгут эти глаза», — невольно подумал Карач-мурза, когда она на него взглянула.
Княжич Михаил, юноша лет семнадцати, тоже лицом был приятен, а ростом высок и строен. В Кракове у польских панов перенял он некоторую тонкость манер, чем выгодно отличался от сидевших за столом карачевских бояр; в разговоре держался скромно, но не робел и за словом в карман не лазил. Карач-мурзе он понравился.
— А ты князя Витовта и прежде знавал, царевич, либо теперь впервой к нему приехал? — спросил Иван Мстиславич, когда уже выпили по две-три чарки и несколько освоились друг с другом.
— Семь тому лет, как мы встретились с ним впервые, — ответил Карач-мурза. — Был я с ханом Тохтамышем у князя Витовта в Киеве и ходил с ним на Ворсклу.
— И в той злосчастной битве участвовал?
— Да, князь.
— Ты не братом ли хану Тохтамышу доводишься, царевич? — спросила вдруг Юлиана Ивановна, до сих пор не принимавшая участия в разговоре.
— Двоюродным братом, княгиня.
— Все равно… Так это, значит, ты князя Витовта вызволил, когда на него татарин аркан накинул! Он нам рассказывал.
— Я был поблизости и перерубил аркан, — скромно ответил Карач-мурза. Княгиня больше ничего не сказала, но ему показалось, что глаза ее отразили признательность.
— Так вот оно что, — протянул Иван Мстиславич. — Теперь я понимаю, почему Витовт Кейстутьевич дает тебе земли, сколько ты сам хочешь. Попади он в полон, ему бы это подороже стоило! Ну, а Орду ты почто покинул, будучи столь высокого ханского роду? Там ты, поди, много большими угодьями володел?
— Володел, князь. Но в Орде ныне взял верх мой лютый ворог, и я все потерял, а чтобы воевать с ним еще, я уже стар. Вот и приехал сюда на покой.
— Ну, в час добрый! И коли тебя здесь свои же татары не станут тревожить набегами, покой тебе будет. У нас тихо. Удельных князей так поприжали, что усобицы им и на ум не идут.
— Это и лучше, князь.
— Что усобицы вывели, то, вестимо, лучше. А вот, что прижали, в том хорошего мало.
— Так ведь, если бы не прижали, были бы усобицы.
— Не скажи. Не в ту сторону ныне жмут. Вон при Ольгерде Гедиминовиче усобиц князья тоже не смели заводить, а жили вольно, по старине, никто их с отчих столов не гнал и в душу к ним с сапогами не лез. А ныне, коли ты вере своей изменить не хочешь, ты уже человек подлой [535] стати. Король Владислав пишет указ за указом: католикам пожалованья да привилеи, а православным урезки да утеснения. Ну, да что об этом говорить, — спохватился вдруг Хотет, сообразив, что развязал язык при чужом человеке, который может пересказать все Витовту. — Вестимо, не столь уж оно и плохо, только человеку всегда лучшего хочется, такова уж его натура. Ты лучше скажи: семья-то у тебя есть, али бобылем тут станешь жить?
— Есть у меня жена и два сына. Старший имеет в Орде хороший улус и большую семью, он там и останется. А молодший вместе с матерью невдолге приедет ко мне сюда.
— Только одна у тебя жена, царевич? — с легким лукавством в голосе спросила Юлиана Ивановна.
— Одна, княгиня. Я всегда жил с одной.
— Будто и не по-татарски, — промолвил один из молодых бояр, уже слегка захмелевший. — Ежели закон и обычай дозволяют, почему не попользоваться?
— Прошу прощения, царевич, — вставил Михаил, очевидно, желая замять неловкость, — младшему сыну твоему, что сюда приедет, сколько лет?
— Годами он чуть молодше тебя, княжич, но на вид того не скажешь: росту он твоего, а в плечах будет пошире.
— Слушаю я тебя, слушаю, царевич, — прошамкал старый боярин, до сих пор не произнесший ни одного слова, — и все боле дивлюсь твоей русской речи. Николи не слыхал, чтобы татарин так чисто говорил по-нашему.
— Я многому учился и говорю на разных языках, — ответил Карач-мурза, — а на русском лучше других, ибо часто бывал на Руси и подолгу общался с русскими.
— И все же дивно мне это, — не унимался боярин. — Да и голос твой я, будто, колись слыхал.
— Ну, это тебе, Федор Семенович, от вина примстилось, — сказал князь. — Ведь ты из Карачева, почитай, во всю жизнь не выезжал, а царевич тут впервые.
— Да, вино у тебя крепкое, Иван Мстиславич, — поднимаясь из-за стола, промолвил Карач-мурза. Он решил, что благоразумней будет уйти, пока старик, несомненно помнивший его отца, не слишком воскресил в памяти прошлое. — Пора уж и мне на отдых, притомился в пути изрядно и досе не отошел.
— Побудь с нами еще, царевич, — сказал князь. — Куда тебе спешить? Ну, поедешь на Неручь днем позже, какая в том беда?
— В том беды и впрямь не будет, но вот стар я стал, это беда! Не токмо на бранном поле, но и за веселым столом не тягаться уж мне с молодыми. За привет и за ласку тебе, Иван Мстиславич, спасибо, а тебе, княгинюшка, за отменное угощение. Чаю, еще не однажды свидимся.
На следующий день, едва рассвело, Карач-мурза, взяв с собою своего старшего нукера Нуха, который верно служил ему уже много лет, выехал из города и направился в Кашаевку.
С той поры, как довелось ему побывать там в молодости, он ничего не слыхал о семье Софоновых, но память о ней хранил крепко. Стариков он не рассчитывал застать в живых, ведь им ныне было бы мало не по сто лет, но кто-либо из сыновей еще мог жить, да и Ирина тоже… Желание узнать о судьбе сестры и заставило его предпринять эту поездку.
«Ее-то в Кашаевке нету, — думал он, приближаясь к усадьбе. — При такой красоте, вестимо, давно вышла замуж снова и живет где-либо своей семьей, коли еще жива. Но тут о ней беспременно что-нибудь знают».
Усадьба стояла на месте, и в ней даже мало что изменилось, только дом совсем почернел, да липы возле него так разрослись, что тенью своею закрывали почти полдвора.
— Кто у вас тут хозяин? — въехав во двор, спросил Карач-мурза у стоявшего подле крыльца паренька.
— Как кто? Вестимо, родитель мой Павел Михайлович.
— А тебя самого как звать?
— Меня-то? Мишкой кличут.
— Так вот, Мишка, доведи-ка отцу, что гость приехал, а имя свое сам ему скажу.
Минуты три спустя на крыльцо вышел богатырского сложения мужчина лет под шестьдесят, с сильной проседью в бороде.
— Не узнаешь меня, Павел Михайлович? — спросил Карач-мурза, слезая с коня.
— Будто не признаю, — вглядываясь, ответил хозяин. — Да и не было у меня, кажись, знакомцев татар.
— А боярина Снежина ты помнишь, с которым на сохатого когда-то ходил?
— Мать честная! Да неужто это ты, Иван Васильевич?! — вскричал Софонов, сбегая с крыльца и сжимая Карач-мурзу в объятиях.
* * *
Час спустя они сидели в трапезной за столом в кругу семьи Павла Михайловича, и Карач-мурза уже успел поведать о том, почему он очутился в этих краях.
— Ну вот и ладно, — промолвил Софонов, — будем, значит, почти соседями. Я тот край добро знаю. Ты бери землю по Неручи, там будет получше: место ровное, не столько болот и оврагов, да и смерды кое-какие есть, а на Рыбнице пусто. Да коли будет надобна тебе какая помога, только скажи! Ведь мы знаем, какой ты боярин Снежин, — покойница мать нам открыла твою тайну, взявши с нас клятву, что из семьи нашей сказанное ею не выйдет. Клятву свою мы блюдем, однако теперь зачем тебе таиться? Князь наш ноне ничто, он Витовта боится, как черт креста, и коли ты с Витовтом хорош, так он еще и тебя бояться будет. А ежели тут одному-другому сказать, что ты сын князя покойного, всеми любимого Василея Пантелеевича, каждый почтет за великую радость тебе в чем ни есть пособить!
— Спасибо на добром слове, Павел Михайлович, но помощь мне едва ли снадобится: я приведу с собой много людей из Орды. Что же до истинного имени моего, — особо таить его и вправду нет надобности, но все же по первому времени, доколе тут не обживусь, лучше бы его не знали. Так мне и князь Витовт советовал.