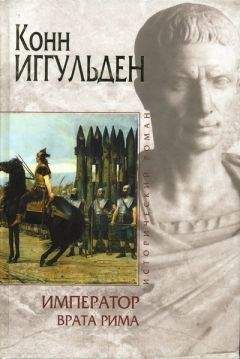Глаза Рения были открытыми и ясными. Гай посмотрел ему в лицо и удивленно заморгал. Наверное, дело было в слабом освещении, но Рений выглядел моложе. Нет, конечно, это невозможно, и все-таки глубоких морщин стало меньше, на висках появилось несколько черных волосков, правда, почти невидимых при таком освещении, но в седине заметных.
— Ты выглядишь… неплохо, — заставил себя сказать Гай.
Рений иронично хмыкнул.
— Кабера исцелил меня, прямо чудо какое-то. Он сам удивился больше других, сказал, что это судьба, раз он так на меня подействовал. Если честно, я вполне окреп, хотя левая рука все так же не слушается. Луций хотел ее отрезать, чтобы не болталась. Я… может, и позволю ему, когда остальное залечится.
Гай слушал его молча, загоняя внутрь болезненные воспоминания.
— Всего пару дней, а столько всего произошло! — сказал он. — Я рад, что ты не уехал.
— Я не смог спасти твоего отца. Я был слишком далеко и сам на последнем издыхании. Кабера сказал, что он умер мгновенно, от меча в сердце. Скорее всего, он даже этого не осознал.
— Я все понимаю, можешь не говорить. Я знаю, он не мог не стоять на стене. Я тоже, но меня оставили в комнате и…
— Но ты все равно выбрался, правда? Я рад, что так получилось. Тубрук говорит, ты спас его в самом конце, как… как резервный отряд.
Старик улыбнулся и закашлялся. Гай терпеливо ждал, пока приступ не закончится.
— Это я приказал не пускать тебя. Ты был слишком слаб для долгого боя, и отец согласился. Он хотел тебя защитить. И все-таки я рад, что ты под конец выбрался.
— Я тоже. Я бился рядом с Рением! — сказал Гай, и, хотя он улыбался, его глаза заполнились слезами.
— Я всегда бьюсь с Рением, — пробормотал старик. — И петь песни тут совершенно не о чем.
Рассвет был холодный и серый, но небо над поместьем оставалось чистым. Низкое и печальное завывание рогов заглушило радостный птичий щебет, который звучал резким диссонансом в день, отмечавший уход человека из жизни. Из дома убрали все украшения, а над главными воротами прикрепили ветку кипариса, чтобы жрецы Юпитера знали, что внутри покойник, и не входили.
Рога простонали три раза, и присутствующие запели: «Conclamatum est».[15] У ворот столпились участники процессии в грубых шерстяных тогах, неумытые и небритые в знак горя.
Гай стоял у ворот вместе с Тубруком и Марком и смотрел, как тело его отца выносят ногами вперед и осторожно кладут на открытую повозку, чтобы отвезти на погребальный костер. Все, опустив головы и погрузившись в молитвы или свои мысли, ждали, когда Гай подойдет к умершему.
Он смотрел на лицо, которое знал и любил всю жизнь, и пытался вспомнить, каким оно было, когда эти глаза открывались, а сильные руки пожимали ему плечо или ерошили волосы. Те же самые руки сейчас лежали неподвижно вдоль тела, чисто вымытая кожа блестела от масла. Раны прикрыли складками тоги, но от этого тело не казалось более живым. Грудь не поднималась и не опускалась; кожа выглядела слишком бледной и неестественной. Гай подумал, что она холодная на ощупь, но не мог заставить себя дотронуться до нее.
— Прощай, отец мой, — прошептал он и чуть не пошатнулся: горе захлестнуло его волной.
Все смотрели на него, и Марк заставил себя стоять ровно. Он не опозорит память отца! Кто-то из этих людей — незнакомые ему клиенты, но есть и падальщики, которые явились, чтобы лично убедиться в его слабости. Укол гнева помог ему справиться с грустью. Гай склонил голову и взял отца за руку, которая оказалась какой-то матерчатой, грубой и холодной.
— Conclamatum est, — произнес он вслух, и толпа повторила за ним.
Гай отошел в сторону и молча смотрел, как мать приближается к погибшему мужу. Было видно, как она дрожит под грязной шерстяной одеждой. Волосы, не причесанные в это утро рабынями, беспорядочно торчали, глаза налились кровью, руки дрожали. Она в последний раз дотронулась до отца Гая. Юноша напрягся: хоть бы она закончила ритуал, не опозорившись! Он стоял ближе всех и расслышал слова, которые она произнесла, склоняясь над самым лицом покойника:
— Почему ты оставил меня, любовь моя? Кто теперь развеселит меня в минуты грусти, кто обнимет меня в темноте? Разве об этом мы мечтали? Ты обещал мне, что всегда будешь рядом, если я устану и обижусь на весь мир…
Она зарыдала, и Тубрук подал сигнал специально нанятой сиделке. Эта римская матрона, конечно, не могла ее вылечить, как и все врачи, но Аврелии в ее компании было немного легче. Тубрук кивнул, когда она ласково увела Аврелию за руку в дом.
Гай медленно выдохнул. На глаза его навернулись слезы, хотя он и не заметил, как они подобрались к ресницам.
К нему подошел Тубрук и тихо сказал:
— С ней все будет хорошо.
Оба знали, что это неправда.
Один за другим собравшиеся подходили отдать последнюю дань уважения. Потом многие обращались к Гаю, говорили добрые слова о его отце и приглашали связаться с ними в городе.
— Он всегда вел со мной дела честно, даже если это было ему невыгодно, — проговорил один седой человек в тоге из грубой ткани. — Он владел пятой частью моих магазинов в городе и одолжил мне денег, чтобы их выкупить. Он был из тех редких людей, которым можно доверить что угодно. И он всегда был справедлив.
Гай крепко пожал ему руку.
— Спасибо! Тубрук поговорит с вами о будущем.
Мужчина кивнул.
— Если он сейчас смотрит на меня, пусть увидит, что я веду честную игру с его сыном. Это самое малое, чем я могу ему отплатить.
За ним последовали другие. Гай почувствовал гордость за отца, уход которого искренне печалил стольких людей. В Риме он жил другой жизнью, неведомой сыну, но жил честно. Гаю было приятно думать, что городу будет хоть немного не хватать его отца.
В толпе выделялся человек, одетый в чистую тогу из хорошей белой шерсти. Он не остановился у повозки, а сразу подошел к Гаю.
— Я здесь за Мария, консула. Его сейчас нет в городе, но он послал меня сказать вам, что не забудет вашего отца.
Гай вежливо поблагодарил его, в то же время быстро обдумывая, что и как сказать.
— Передайте консулу Марию, что я навещу его, когда он в следующий раз будет в городе.
Человек согласно склонил голову.
— Я уверен, вас ждет теплый прием. Ваш дядя будет в своем городском доме ровно через три недели. Я дам ему знать.
Посланец пробрался сквозь толпу и вышел за ворота. Гай проводил его взглядом.
Марк придвинулся к нему и тихо сказал:
— Ты уже не так одинок!
Гай вспомнил слова матери.
— Да. Отец показал мне, как нужно прожить жизнь. И я клянусь, что на моих похоронах, когда будет принимать соболезнования мой собственный сын, на повозке будет лежать не худший человек, чем он.
В рассветной тишине послышались низкие голоса плакальщиц, тихо повторявшие одни и те же печальные строки песни. Все вокруг наполнилось грустью. Повозка медленно выехала из ворот, следом пошли люди со склоненными головами.
Двор вскоре опустел. Гай остался ждать Тубрука, который проверял, как себя чувствует Аврелия.
— Ты идешь? — спросил Гай, когда тот вернулся.
Тубрук покачал головой.
— Остаюсь, чтобы служить твоей матери. Ей сейчас нельзя оставаться одной.
Слезы снова подступили к глазам Гая, и он тронул за руку старшего мужчину.
— Закрой за мной ворота. Я сам вряд ли смогу.
— Ты должен это сделать. Твой отец уходит в могилу, ты его провожаешь и, как новый хозяин, должен закрыть ворота поместья. Я не имею права занимать твое место. Закрой поместье и подожги погребальный костер, и тогда я назову тебя хозяином. А теперь иди.
Слова застряли у Гая в горле. Он отвернулся и закрыл за собой тяжелые ворота. Медленная процессия ушла недалеко, и он отправился за ними, выпрямив спину, но с болью в сердце.
Крематорий находился за городом, неподалеку от их фамильной гробницы. Уже десятки лет хоронить людей в стенах Рима было запрещено, потому что земля требовалась для строительства. Гай молча наблюдал, как тело отца кладут на большой костер из пропитанных ароматическими маслами дров, хвороста и соломы. В воздухе висел тяжелый цветочный запах. Плакальщицы сменили похоронную песню на песню о надежде и возрождении. Распорядитель похорон с темными глазами и спокойным лицом человека, привыкшего к смерти и горю, поднес Гаю трескучий факел. Гай вежливо, но отстраненно поблагодарил.
Он приблизился к костру и почувствовал, что все на него смотрят. Он не выкажет слабости на людях! Рим и его отец следят, не оступится ли он. Этому не бывать!
От запаха ароматических масел кружилась голова. Гай протянул руку с серебряной монеткой, открыл расслабленный рот отца и прижал кусок металла к сухому прохладному языку. Это плата перевозчику Харону, чтобы тот переправил его отца в тихие земли за рекой. Гай осторожно закрыл покойнику рот, отступил в сторону и приставил дымящийся факел к промасленной соломе в основании костра. Почему-то припомнилась вонь горящих перьев, но мысль исчезла так быстро, что он не успел понять, откуда она.